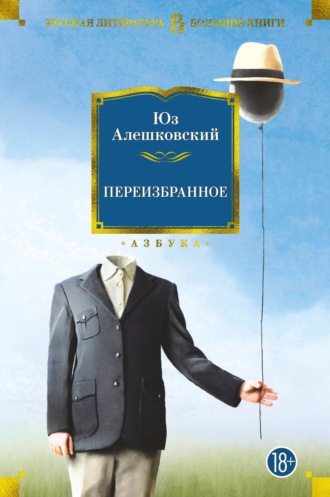
Юз Алешковский
Переизбранное
8
На другой день Кимза на меня волком смотрел, не разговаривал, а Влада Юрьевна цыганским своим голосом спросила:
– Может быть, сегодня, Николай, вы сами? А я подготовлю установку.
– Конечно, – говорю. Запираюсь в хавирке, жду команды: внимание – оргазм! Думаю о Владе Юрьевне. И у меня с ходу встает.
Тут она постучала, просовывает в дверь книжку и советует:
– Вы отнеситесь к мастурбации как к своей работе, исключите начисто сексуальный момент как таковой. К примеру, мог бы дядя Вася работать в морге, если бы он рыдал при виде каждого трупа?
Логикой она меня убедила, хотя я подумал, что как же это так, если исключить сексуальный момент? Ведь тогда и стоять не будет. Однако поверил. Одной рукой дрочу, другой – книгу читаю. Кимза, сволочь, олень-соперник, стучал два раза и торопил. Я его на хуй послал и сказал, что я ему не Мамлакат Мамаева и не левша и обеими руками работать не умею. Книга была «Далеко от Москвы». Интересно. Я сам ведь был на том нефтепроводе. Вот какие судьба дает повороты. Несу пробирку с малофейкой Владе Юрьевне.
– Спасибо. Вы не уходите, Николай. Вникайте в суть наших экспериментов. Анатолий Магомедович разрешил. В этой установке мы будем сегодня бомбардировать ваших живчиков нейтронами и облучать их гамма-лучами. А затем, вот в этом приборе ИМ-1, начнется наблюдение за развитием плода. Это – матка. Только искусственная. Наша тема: исследование мутаций и генетического строения эмбрионов в условиях жесткого космического облучения с целью выведения более устойчивой к нему человеческой особи.
Я раскрыл ебало, как ты сейчас, ничего не понимаю, но смотрю. Малофейку мою в тоненькой стекляшке заложили в какую-то камеру. Кимза орет: «Разряд!» – а мне страшно и жалко малофейку. Ты представь: нейтрон этот несется, как в жопу ебаный, и моего родного живчика Николай Николаевича – шарах между рог! А он и хвостик в сторону. Надо быть извергом, чтобы спокойно чувствовать такое. Я зубы сжал, еще немного – распиздошил бы всю лабораторию. Тут вынимают мою малофейку, смотрят в микроскоп – а она ни жива ни мертва – и в газ суют для активности. Потом отделили одного живчика от своих родственников и в искусственную поместили матку. Господи, думаю, куда же мы забрели, если к таким сложностям прибегаем. Кто эту выдумал науку? Пойду я лучше по карманам лазить в троллейбусе «Букашка» и в трамвае «Аннушка». Особенно зло меня разобрало на эту матку искусственную. Шланги к ней разные тянутся, провода, сама блестит, стрелками шевелит, лампочками, сука такая, мигает, а рядом четыре лаборантки вокруг нее на цирлах бегают, и у каждой по матке, лучше которых не придумаешь, хоть у тебя во лбу полметра с дюймом. И поместили туда Николай Николаевича! А что, если он выйдет оттуда через девять месяцев, а глаз у него правый нейтроном выбит, и ноги кривые, и одна спина короче другой, и вместо жопы – мешок, как у кенгуру? А? Чую – говно ударило в голову. Хорошо Влада Юрьевна спросила:
– Вы о чем задумались, Николай?
– Так. Прогресс обсуждаю про себя, – говорю и в обе фары уставился на нее, сердце стучит, ноги подгибаются, дыхания нет: любовь! Беда!
Вечером беру спирт, закусон и иду на консилиум к международному урке.
– Так и так, – говорю, – что делать?
– Не с твоим кирзовым рылом лезть в хромовый ряд. На этом деле грыжу наживешь и голой сракой об крашеный забор ебнешься, – говорит урка. – Забудь любовь, вспомни маменьку.
– Пошел ты на хуй малой скоростью, – говорю.
– Хороший ответ, молодец. Вот если бы так в райсобесе отвечали, то и никакой бюрократии в государстве бы не было. А то с пенсией тянут, тянут. Патриотизма в них ни на грош.
Урка пенсию по инвалидности хлопотал. Он, видать, задумался, приуныл. Я и покандехал к дому. В сердце – сплошной гной. Впору подсесть и перезимовать в Таганке всю эту любовь. Мочи нет. И даже не думаю, есть у Влады муж или нет его, насрать мне на все, глаза на лоб лезут, и учти, дело не в половой проблеме. Бери выше. Ночь не спал, ходил, голову обливал из крана, к Кимзе постучал. Он не пустил. Может, спал? Утра не дождусь. Как назло, часы встали. Прибегаю, а в лаборатории все Владу Юрьевну с чем-то поздравляют, руки трясут, в руках у нее букет, она головой кивает по-княжески, с высоты, увидела меня, подходит и дает цветочек. Кимза же, заметил я, плачет тихо, слезы текут.
– Николай! Для вас это тоже праздник своего рода. – У меня рыло перекосило шесть на девять, и что бы ты думал? Оказывается, Влада Юрьевна попала от меня искусственно первый раз то ли в РСФСР, то ли во всем мире. «Как? Как?» Ну и олень ты сохатый. На твои рога только кальсоны сраные вешать, а шляпу – большая честь. Голодовку объявлял когда? А я объявлял. Меня искусственно кормили через жопу. Ну и навозились с ней граждане начальники! Только воткнут трубку с манной кашей, а я как перну – и всех их с головы до ног. Они меня сапогами под ребра, по пузу топают, газы спутают и опять в очко загоняют кашицу или первое, уж не помню. А я опять поднатужусь, кричу: «Уходи! Задену!» – их как ветром сдуло. Откуда во мне бздо бралось – ума не приложу. От волюнтаризма, наверное. А может, от стального духа. Веришь, перевели меня из Казанской тюрьмы в Таганку, чего и добивался. Похудел только.
Короче, Владе Юрьевне Кимза вставил трубочку, и по трубочке мой Николай Николаевич заплясал на свое место. Вот в какую я попал непонятную, сука, историю. Не знаю, как быть и что говорить. Только чую: скоро чокнусь. Мне бы радоваться как папаше будущему и мать своего ребенка зажать и поцеловать, а я в тоске и думаю, ебись ты в коня, вся биология, жить бы мне сто лет назад, когда тебя не было. Чую: скоро чокнусь, смотрю на Владу Юрьевну, вот она, один шаг между нами, и не перейти его. А в ней ни жилка не дрогнет, ни жилочка. Сфинкс. Тайна. Вроде бы ей такое известно, до чего нам не допереть, если даже к виску отбойный молоток приставить. Однако беру психику в руки.
– Вы, Николай, не смущайтесь и ни о чем не беспокойтесь. Если хорошо кончится – вы дадите ему имя. Я вас понимаю… все это немного грустно. Но наука есть наука.
9
Я, чтобы не заплакать, ушел в свою хавирку, лег, мечтать начал о Владе Юрьевне, привык на нарах этаким манером себя возбуждать, мастурбирую и «Далеко от Москвы» читаю. В лаборатории вдруг какой-то шум, я быстро струхнул в пробирку, выхожу, несу ее в руке. А там, блядь, целая делегация. Замдиректора, партком, начкадрами и какие-то не из биологии люди. Приказ читают Кимзе. Лабораторию упразднить. Кимзу и Владу Юрьевну уволить. Лаборанток перевести в уборщицы, а на меня подать дело в суд, ни хуя себе уха, за очковтирательство, прогулы и занятия онанизмом, не соответствующие должности технического референта. А за то, что я уборщицей был по совместительству, содрать с меня эти деньги и зарплату до суда заморозить. Я как стоял с малофейкой в руке, так и остался стоять. Ресничками шевелю, соображаю, какая ломается мне статья, решил уже – сто девятая. Злоупотребление служебным положением. Часть первая. А замдиректора еще что-то читал про вредительство в биологической науке и как Лысенко их разоблачил, насчет империализма-менделизма и космополитизма. Принюхиваюсь. Родной судьбой запахло, потянуло тоскливо. Судьба моя пахнет сыро, вроде листьев осенних, если под ними еще куча говна собачьего с прошлого года лежит.
– Вот он! Взгляните на него! – Замдиректора пальцем в меня тычет. – Взгляните, до каких помощников опустились наши горе-ученые, так любившие выдавать себя за представителей чистой науки. Чистая наука делается чистыми руками, господа менделисты-морганисты!
Челюсть у меня – кляцк! Пиздец, думаю! Тут, окромя собственной судьбы, еще и политикой чужой завоняло. С ходу решаю уйти в глухую несознанку. С Менделем я не знаком. На очной ставке так и скажу, что в первый раз в глаза вижу и что я таких корешей политанией вывожу, как лобковую вшу. А насчет морганиста прокурору по надзору заявлю, что в морге моей ноги не было и не будет и мне неизвестно, ебал кто покойников или не ебал. Чего-чего, а морганизма, сволочи, не пришьете! За него же дают больше, чем за живое изнасилование! Это ты уж, кирюха, у прокурора спроси, почему извилина у тебя одна и та на жопе, причем не извилина, а прямая линия. Не перебивай, лох позорный. Гуляй по буфету и слушай… Прибегает академик, орет: «Сами мракобесы!» А замдиректора берет у истопника ломик и шарах этим ломиком сплеча по искусственной пизде!
– Нечего, – говорит, – на такие горе-установки народные финансы переводить! – Малофейку у меня из руки вырвал и выбросил, гад такой, в форточку. Из этого я вывел, что он уже не зам, а директор всего института. Так и было.
Кимза вдруг захохотал, академик тоже, Влада Юрьевна заулыбалась, народу набилось до хера в помещении. Академик орет:
– Обезьяны! Троглодиты! Постесняйтесь собственных генов!
– У нас, с вашего позволения, их нету. У нас не гены, а клетки! – отбрил его замдиректора. – Признаетесь в ошибках?
Потом составляли кому-то приветствие, потом на заем подписывались, и меня дернули на заседание Ученого совета. И вот тут началась другая судьба, убрали говно собачье из-под осенних листьев. Выкинул я его своими руками. Но по порядку. Поставили меня у зеленого стола и вонзились. Мол, зададут мне несколько вопросов, и чем больше правды я выложу, тем лучше мне будет как простой интеллигентной жертве вредителей биологии. Задавать стал замдиректора.
– В каких отношениях находился Кимза с Молодиной? Писал ли за нее диссертацию и оставались ли одни?
Но по порядку. Я тебе разыграю допрос.
– В отношениях, – говорю, – научных. На моих глазах не жили.
– Говорил академик, что сотрудники Лепешинской только портят воздух?
– Не помню. Воздух все портят. Только одни прямо, а другие исподтишка.
– Вы допускали оскорбительные аналогии по адресу Мамлакат Мамаевой?
– Не допускал никогда, уважал с детства. Имею портрет.
Я сразу усек, что донос тиснула одна из лаборанток. Больше некому. Валя, псина.
– Кимза обещал выдать вам часть Нобелевской премии?
– Не обещал.
– Кто делал мрачные прогнозы относительно будущего нашей планеты?
– Не помню.
– Как вы относились к бомбардировке вашей спермы нейтронами, протонами и электронами?
– Сочувственно.
– Обещал ли Кимза сделать вас прародителем будущего человечества?
– На хуй мне это надо? – завопил я. – Первым по делу пустить хотите?
– Не материтесь. Мы понимаем, что вы жертва. Что сказал академик относительно сталинского определения нации?
– По мне, все хороши, лишь бы ложных показаний на суде не давали. Что жид, что татарин.
– Почему вы неоднократно кричали? Вам было больно?
– Приятно было, наоборот.
– Вам предлагали вивисекцироваться?
– Нет, ни разу.
– Вы знаете, что такое вивисекция?
– Первый раз слышу.
– В чем заключалась ваша… ваши занятия?
– Мое дело дрочить и малофейку отдавать. Больше я ничего не знаю. Действовал по команде: внимание – оргазм! Как услышу, так включаю кожаный движок.
– Как относились сотрудники лаборатории к Менделю?
– Исключительно плохо. Неля даже говорила, что они во время войны узбекам в Ташкенте взятки давали и заместо себя в какой-то посылали Освенцим. И что ленивые они. Сами не воюют, а дать себя убить – пожалуйста.
– Кем проповедовался морганизм?
Началось, думаю, самое главное, и вспомнил, как Влада Юрьевна говорила: «Что было бы, Николай, если бы дядя Вася в морге рыдал над каждым трупом?» С ходу стемнил.
– Что это за штука, морганизм?
– Вам этого лучше не знать. Кто с уважением отзывался о космополитах?
– Кто это такие? Первый раз слышу.
– Выродки! Люди, для которых не существует границ.
Пиздец, думаю, надо будет предупредить международного урку вечером.
– Сколько часов длился ваш рабочий день и сколько спирта вы получали за свою трудовую деятельность?
Ну, думаю, пора принимать меры. Косить надо. Затрясся я, надулся до синевы, подбегаю к другому концу стола – и хуяк в рыло замдиректору полную чернильницу чернил. А она в виде глобуса сделана. Хуяк, значит, – и в эпилепсию. Упал, рычу, пену пускаю. Ногами колочу, начкадрами по яйцам заехал, кто-то орет:
– Язык ему надо убрать, задохнется, зубы быстрей разожмите чем-нибудь железным!
Кто-то сует мне между зубов часы карманные. Я челюстью двинул, они и тикать перестали. Глазами вращаю бессмысленно. Эпилепсия – первый класс по Малому театру. Перестарался, подлюга, затылком ебнулся об ножку стола и начал затихать постепенно. А они вокруг меня держат совет, чтобы сор из избы не выносить, Западу пищу не давать. «Скорую помощь» вызвали.
– Этого я никогда не ожидал от своей бывшей жены, – сказал замдиректора – вся рожа и рубашка в чернилах, – хотя о ее связи с Кимзой догадывался. Она просто мелкая извращенка. С сегодняшнего дня мы разведены.
Ну уж тут я чуть не вскочил с пола, однако сдержался. А «скорая помощь» – ее за смертью, сволочь, посылать – все не едет. Я опять забился, потом притих и говорю: «Воды-ы! Где я?» Отплевываюсь сам почему-то чернилами, с губы пена фиолетовая капает, шатаюсь с понтом, все болит. Мне говорят, чтобы не нервничал, работу обещали подыскать, воды подали, на Кимзу заявление просили сочинить и вспомнить, приносил ли он на опыты фотоаппарат. «Скорая» так и не приехала. В общем, они перебздели из-за меня.
10
Я только вышел из института, беру такси и рву к дому Влады Юрьевны. В голове стучит, ни хуя себе уха!.. Евонная жена она… ни хуя себе уха… ах ты, сука очкастая! И жалко мне, что чернильница была глобусом, а Земля наша не квадратная. В темечко бы ему до самого гипоталамуса, гнида, острым краем. Такую парашу пустить про лучшую из женщин! «Мелкая извращенка!»
Подъезжаю, блядский род, к ее дому, шефу говорю: «Стой и жди». Сам квартиру нашел, звоню. Открывает она, Влада Юрьевна, слава тебе, Господи!
– Николай, почему у вас все лицо в чернилах?
– Ваш муж бывший допрашивал. Но я не раскололся и никого не продал.
– Ах, он успел публично отказаться от менделистки-морганистки? Заходите. Собственно, я сама ухожу. Уже собрала вещи.
Короче говоря, тут уж я не таился и говорю:
– Едемте ко мне, не думайте ничего такого, я один живу, могу и у приятеля поошиваться, а вы будьте как дома.
– Едемте, – отвечает, – но ведь вы с Толей в одной квартире живете…
– Ну и что? – кричу и чемодан беру уже за глотку.
Жил я тогда один. Тетку мою месяцев шесть как захомутали. Ее, если помнишь, паспортный стол ебал, она и устраивала через него прописки. За деньгу большую. И погорела. Один прописанный шпионом оказался. А эти падлы не то что мы, которые всю дорогу в несознанке. Раскололся и тетку продал. Дедка за репку, бабка за папку. Тетка продала своего, тот разговорился. Трясанули яблоньку, и всех, кого они прописали, выселять начали. Между прочим, тетке я кешари каждый месяц шлю и деньгами тоже. Хуй – в беде оставлю. Значит, едем мы в такси, она мне ваткой чернила на ебальнике вытирает, а у меня стоит от счастья, никто еще за чистотой моей не следил. Никогда. Любили меня неумытого на сплошных раскладушках. Романтиком я был. Всегда в пути, как сейчас говорят. И оказывается, Влада Юрьевна еще до войны студентами крутила с Кимзой роман. Но целку до диплома он ей ломать не хотел. Так я понял. Тут война. Кимзу куда-то в секретный ящик загнали, бомбу делать или еще что-то. Года через два появляется он весь облученный от муде до глаз, и, сам понимаешь, на такую пиписку только окуньков в проруби ловить, и то не клюнет. Трагедия. Хотели оба травиться. А Молодин, замдиректора, уговорил как-то Владу Юрьевну. Хули, действительно, вешаться? И Кимза ей согласие дал. Она мне зачем рассказала-то? Чтобы я с ним был вежливый и сожалительный. Чтобы матом не ругался. Она бы в его комнате жила, но боится, Кимза запьет от тоски, что с ним уже случалось. Приехали. Сгрузили вещички. Я и рассудил, как проводник: надо спускать на тормозах. Взял бельишко и говорю Владе Юрьевне:
– Поживу у кирюхи, а вы тут не стесняйтесь: за все уплачено. – И пошел к международному урке.
11
Спиртяги взял. Лабораторию прикрыли. Завтра не дрочить. Можно и нажраться. Выпили. Предупредил я его, чтобы поосторожнее рассказывал, как за границу перепрыгивал до тридцатого года в экспрессах. А то космополитизм пришьют. И бедный мой урка международный совсем до слез приуныл. Он же, говорит, три языка знает и четыре «фени». Польский, немецкий и финляндский. Правда, на них его только полиция понимает и проституция, но и так бы он Родине сгодился чертежи какие пиздануть из сейфа у Форда или дипломата молотнуть за все ланцы и ноты дипломатические. Ты знаешь, лох, говорит урка, сколько я посольств перемолотил за границей? В Берлине брал греческое и японское, в Праге, сукой мне быть, – немецкое и чехословацкое. Но в Москве – ни-ни! Только за границей. Я ведь что заметил: когда прием и общая гужовка, эти послы, ровно дети, становятся доверчивыми. В Берлине я с Феденькой-эмигрантом – он шоферил у Круппа – подъезжал к посольству на «мерседесе-бенчике». На мне смокинг и котел, чин чинарем. Вхожу, говорит урка, по коврам в темных тапочках на лесенку, по запаху канаю в залу, где закуски стоят. Самое главное в нашей работе – это пересилить аппетит и тягу выпить. А послы мечут за обе щеки. На столе поросята жареные, колбасы отдельной – до хуя, в блюдах фазаны лежат, все в перьях цветных, век мне свободы не видать, говорит, если не веришь. Попробуй тут удержись – слюни, как у верблюда, текут, живот подводит… В Берлине вшивенько тогда с бациллой было. Все больше черный да черствый. Но работа есть работа – просто так щипать[9] я и в Москве мог. Выбираю посла с шеей покрасней и толстого. Худого уделать трудно, он, как необъезженный, вздрагивает, если прикоснешься, и глаза косит, тварь. Выбираю я его, с красной шеей, в тот момент, когда он косточку обгладывает поросячью или же от фазана. Обгладывает, стонет, вроде кончает от удовольствия, глаза под хрустальную люстру вываливает, падаль. Объяви ты его родному государству войну – не оторвется от косточки. Тут-то я, говорит урка, левой вежливо за шампанским тянусь, а правой беру рыжие часы или лопатник с валютой. Куда там! Исключительно занят косточкой. Теперь вся воля нужна, чтобы отвалить от стола с бациллой. Отваливаю. Феденька уже кнокает меня у подъезда. Подает шестерка котелок. Я по-немецки выучил, трекаю – себя называю. Другой шестерка орет: «Машину статс-секретаря посольства Козолупии!» Феденька выруливает, и мы солидно рвем ужинать. Нагло работали. Кому я мешал? Я же враждебную дипломатию подрывал и даже не закусывал. И запел урка: «На границе тучи ходят хмуро». А я сижу, слушаю и забываюсь. Подольше бы говорил. Посоветовал ему в Чека написать, попроситься. Он говорит, что уже написал и ответ пришел: ждать, когда вызовут. Я ему не поверил. Что такое морганизм, спрашиваю, знаешь? И рассказываю, как мне его пришить хотели. Международный урка загорелся с ходу, забыл свои посольства и экспрессы, пошли, говорит, возьмем их с поличным! Пошли в морг! А во мне такая любовь и тоска, что я согласился. Поддали для душка и тронулись. Морг этот за нашим институтом во дворе находился. Дача зимняя. Окна до половины, как в бане, белилами замазаны. Свет дневной какой-то бескровный горит – в трех с краю. Встали мы на цыпочки и давай косяка давить. Никого нет, кроме покойников. Лежат они голые, трупов шесть, и с ихних бетонных кроватей вода капает. Обмывали. А в проходе шланг черный змеей из стороны в сторону вертухается – вода из него хлещет. Дядя Вася, видать, выключить забыл. Не поймешь – где баба, где мужик, да и все равно это. Ноги у меня подкосились от страха и слабости. Ничего нет страшней для меня, карманника, когда человек голый и нет на нем карманов. На пляже я не знаю, куда руки девать. В бане, блядь, особенно безработицу чувствую. Но там хоть голые, без карманов, но живые, а тут мертвые. Полный пессимизм. А международный урка прилип к окну – не оторвешь. Прижег я ему голяшку сигаретой – сразу оторвался, разъебай. Хули, говорю, подъезд раскрыл, нет тут ни хуя интересного. А он уперся, что, мол, наоборот. И что как угодно он может себя представить и в Монте-Карло, где он ухитрился спиздить у крупье лопаточку, что деньги гребет, – на хера ее только пиздить, неизвестно, – в спальной посла Японии в Копенгагене, и в Касабланке, где он на спор целый бордель переебал, девятнадцать палок кинул, пять долларов выиграл, и в Карлсбаде в тазике с грязью, ну где хочешь, там он и может себя представить. А в морге, говорит, век мне свободы не видать, изрубить мне залупу на царском пятачке в мелкие кусочки, не могу – и все. Вот загадка! Смотрю и не могу. И лучше не надо. Эту границу никогда не поздно перейти. А пока хули унывать!
Еще поддали… Сидим в кустах, как лунатики, и поддаем. Я и плакать тогда начал, ковыряю в дупле спичкой и реву, сукоедина, как гудок фабрики имени Фрунзе. Международный урка думает, что я трупов перебздел, нервишки не выдержали, а у меня одно на уме. «Я, – говорю, – смерть ебу, понял?» – «Ты-то, – говорит урка, – ее ебешь, а она с тебя не слазит, мослами пришпоривает!» Тут я не выдержал и раскололся урке, что мою малофейку без моей помощи перевели в организм Владе Юрьевне и попала она впервые в историю. Как быть? Может, ковырнуть, а я уж сам по новой накачаю? Или идти в роддом с кешарем и букет из ЦПКиО спиздить? Как я дитя на руки возьму и баюкать буду? У меня, чую, компас неполноценности начинает вздрагивать. Зачем это они выдумали, бляди, разве не смог бы я просто так палку кинуть? Со своей-то злой малофейкой? И чего оргазму пропадать? Я, сучий мир, еще, слава богу, не машина, и муде у меня сварное, а не на гайках. Правильно, думаю, Молодин-замдиректора ломиком пиздятину искусственную раскурочил, одно мокрое место от нее осталось – ебаный нейтронами Николай Николаич. Обидно мне. Как быть? Урка слушает, хохочет. Такой прецедент был, говорит, у нас в Воркуте. Один фраер пятерку волок, год остался, приезжает к нему баба на свидание с пацаном-двухлеткой. Он ее с вахты вытолкал и разгонять начал. «Падла, такая-сякая, проститутка, меня тут исправляют, а ты ебешься с кем попало, алиментов захотела, шантажистка!» Тут даже опер наш возмутился. «Такая нахаловка, – говорит, – товарищ Ляпина, у нас не прохазает. Мы на стороне заключенных, а личных свиданий у вас не было ни одной палки, потому что муж ваш фашистская сволочь, картежник, отказник и саботажник. Идите на хуй, откуда явились!» Баба – в слезу. Доказывает: приходил Ляпин в командировку, пилил и слова говорил. А Ляпин кричит: «Конвой! Бей по ней прямой наводкой! Пускай, сука, проверяет деньги, не отходя от кассы! Шантаж!» С тем баба и уехала. А ведь Ляпин, сволочь, в побег по натуре ходил. Я один знал. Нас тогда не считали даже. Мороз сорок пять градусов, жрать нехуя и убежать некуда. А Ляпин бегал. И все с концами. Наебется, как паук, и обратно чешет. Талант громадный был. Из Майданека бегал, не то что с Воркуты. Я, говорит, поебаться бегу, так как дрочить не уважаю из принципа. Такого человека любая разведка разорвала бы на части. Я говно по сравнению с ним.
Много еще чего натрекали мы с уркой друг другу. В морг так никто не приходил похариться.







