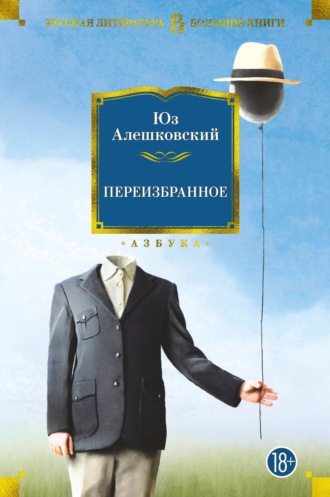
Юз Алешковский
Переизбранное
11
Вдруг Чернолюбов хипежит на весь наш крысиный забой:
– Товарищи! Опасность слева! Приготовить кандалы к бою!
Я ведь, Коля, совсем забыл тебе сказать, что мы были закованы. Тяжесть небольшая, но на душе от кандалов железная тоска. Повоевали с крысами. Побили штук восемь. Норму на две крысы перевыполнили. Цепочки погремели. От работы повеселели все. Шумят. Лыбятся. Разложили крыс на камешках и стали им фамилии присваивать: Мартов, Аксельрод, Бердяев, Богданов, Федотов, Мах, Флоренский, Авенариус, Надсон, а самую большую крысу окрыстили, извини за каламбур, Вышинским. Чернолюбов тут же предложил товарищам встать на трудовую вахту в честь Дня учителя и взять на себя повышенные обязательства покончить с неуловимым вождем каторжных крыс самцом Жаном Полем Сартром ко дню рождения Сталина. Зэки мне легенды о крысином вожде тискали. Огромен был и хитер. Нападал бесшумно. Кусал исключительно за лодыжки и любил хлестаться, убегая, холодным длинным хвостом. Видел в полной темноте прекрасно, хотя имел, по слухам, бельмо на глазу.
Ведь Берия, Коля, какую каторгу изобрел для старых большевиков? С утра до вечера бороться с крысами, которых в руднике было навалом. Причем, повторяю, бороться в полной темноте. А вот откуда они брались, позорницы, тоже легенды ходили. Я-то думаю, что рядом с нашей зоной был лазарет, а при нем кладбище. Верней, свалка мертвых зэков. Крысы на нем гужевались от пуза, а к нам в забой по каким-то подземным ходам бегали для развлечения. Для игры. Опасная игра, но крысы ее любили. Без игры, очевидно, в природе нельзя. Есть даже такая теория игр. И проклял я себя еще раз в том забое за то, что сам напросился в него попасть. Однако, сам знаешь, приговор приговором, но стремиться к свободе надо. Мы ведь чем отличаемся от питонов и бегемотов в зоопарке? Мы знаем совершенно точно конец нашего срока. Хотя он, пока не восстановили так называемые ленинские нормы законности, тоже бывал нам неизвестен и неведом более того.
Первым делом научился я видеть в темноте. Добился этого просто. Ты же знаешь, я любил читать в экспрессах и вычитал, что у людей когда-то в чудесные доисторические времена имелся третий шнифт. Где-то между мозгой и хребтиной, а возможно, и на затылке. Темнота полная, вернее, чернота тьмы мучила меня ужасно, и холодина к тому же убивала просто мою душу, Коля. К темноте этой тоже, разумеется, привыкнешь, на ощупь стоишь, ходишь, время убиваешь, трекаешь, крыс глушишь, и больше нету у тебя никакой другой работы, но очень уж скучно, Коля. Очень скучно. И тогда я себе сказал: «Ты должен, Фан Фаныч, победить тьму момента, а заодно и историческую необходимость, которая, как дьявол, хочет схавать личную твою судьбу!» Так я сказал и начал воскрешать с полным напряжением души и искусством рук давно ослепший третий шнифт. Раз запретил Берия иметь самым важным каторжникам в забое спички, раз запретил добывать огонь первобытным способом и пропускать во тьму лучи солнца, луны и звезд, то Фан Фаныч имеет право нарушить режим, несмотря на угрозу попасть на лазаретную свалку к крысам! Имеет! Имеет! Имеет!
Массирую я, Коля, сначала лоб. Никакого результата. Рога, по-моему, зачесались, а светлее от этого не стало. Массирую вмятину на затылке и в ужас прихожу. Вмятина-то эта от удара прикладом. В двадцатом схлопотал. Вдруг приклад красноармейской винтовки, сам того не ведая, уделал на веки веков мой третий шнифт? Что тогда? Уныние наступило. Четыре месяца тружусь. Ничего не получается. Вспомнил дирижера Тосканини. Он наверняка кнокал третьим шнифтом в зал.
Решаю поставить крест на всех участках черепа, кроме одного: шишечки под вмятиной, вроде маленького холмика она. Тру, мну, снова глажу по часовой стрелке, потому что все важно делать по часовой стрелке, даже мочиться и сдавать бутылки. Мною замечено, Коля, что эта падла Нюрка, которая летом пивом торгует у нас за углом, зимой посуду принимает, и если сдашь ей посуду не по часовой стрелке, обязательно объе… извини, на полтинник или вовсе половину не примет. И что я ей такого, гадине, сделал? Ты пойми, мне не полтинника жалко, и пиво я датское в банках беру в самой «Березке», но зачем так мизерно использовать правило часовой стрелки?
Короче говоря, двадцать один день обрабатывал шишечку под вмятиной, холмик обрабатывал, и зачесался он, словно спросонья настоящий шнифт. Приятно зачесался, чешется, даже повлажнел, прослезился. Но видимости никакой. Темно в забое. Чернолюбов разбирает себе, надо ли было проводить коллективизацию и убирать нэп или не надо, а я тру, тру и тру ослепший за временной ненадобностью третий шнифт. Вспоминай, говорю, солнышко мое, как ты в пещерах вечных ночей мне служил, вспоминай, вспоминай! И вдруг, Коля, отнимаю я от черепа руки и вижу в двух шагах за собой в серой полутьме надзирателя Дзюбу. Но виду, что вижу его, не подаю. Не то, сам понимаешь, сразу лишишься, как бритвы при шмоне, неположенного органа зрения. В этом третьем шнифте оказалось очень большое удобство. Глядел он не вперед, а назад, с затылка, и смотреть по сторонам сперва было непривычно. Стоит Дзюба, никто его не видит, только я. И лицо, прости за выражение, Коля, у Дзюбы чем-то на свое не похоже. Что-то нормальное в нем появилось, как, скажем, в лице какого-нибудь дебила, пришедшего со страхом и срочной болью вырывать зуб. Как будто ноет в Дзюбином теле под портупеей и погонами больная душа, ноет и не может просечь, откуда и за что послана ей такая боль. Покнокал я третьим шнифтом и на штурмовиков Зимнего дворца. И в ихних лицах, в ихних особенно глазах такое же выражение было, как в лице и шнифтах народного надзирателя РСФСР и заслуженного надзирателя Казахской ССР Дзюбы. Ужас, какое выражение, Коля! Немая, слезная, последняя мольба: скорее же вырвите нам душу! Вырвите! Нам же больно! Понимаете? Очень больно! Ну сколько это может продолжаться? Боль, одним словом, состругивает много лишнего с человека.
Тут, Коля, Фан Фаныч не выдержал такого зрелища, смахнул слезинку с третьего шнифта. Закрыл его и говорит:
– Внимание! Жареными семечками пахнет, борщом и салом в забое!
– Верно! Чуете, гады, чекистский дух. Пришел я вас порадовать. Международная реакция заточила в застенок борца за мир Никоса Белоянниса! Но радоваться вам недолго. Народы грудью встанут на его защиту! Выходи на митинг вольняшек! Стройся! И чтоб цепей не терять! Ясно, сволочи?
– Руки прочь от Анджелы Дэвис! – говорит Чернолюбов. – Руки прочь от Назыма Хикмета! Мы с тобой, Корвалан!
– Молчать, циники проклятые! Чернолюбову за иронию трое суток карцера! – отвечает Дзюба.
– О нет! Мир еще не был свидетелем такой трагедии непонимания единомышленников единомышленниками! Есть трое суток карцера! Дисциплина должна быть дисциплиной даже здесь. Партийная дисциплина – абсолют! – Все это Чернолюбов трекал в строю по дороге на митинг.
А я иду по зоне и смотрю назад, на зэков, на бараки, на заборы с козырьками, проволоку колючую и вышки с попками. Смотрю третьим шнифтом на все на это, и трудно ему узнавать знакомую лично мне, Фан Фанычу, жизнь и мир вокруг. Смотрю на то, что мы, люди, с ним сделали. Чернолюбов спрашивает меня:
– Зачем вы, товарищ Йорк, голову так задираете? Что-то вождистое в вас появилось. Вокруг странно смотрите.
И верно, Коля, просек этот идиот. Ведь у третьего шнифта угол зрения был совсем другой, не тот, что у двух остальных. Мне приходилось задирать голову и медленно ее поворачивать, а впереди себя ничего не видел, только небо и тоскливые осенние серые тучи на небе. Тут я и догадался, что вожди пробиваются в люди с немного приоткрытым третьим шнифтом. У них и поворот головы солидный или же, наоборот, шея верткая, и вскидывают они то и дело голову: пристально смотрят назад, на стадо, которое ведут, а передние шнифты прищуривают, потому что на хрена они нужны в момент управления стадом? Но стаду, Коля, кажется, что вождь видит необозримые дали, что заглянул он, родимый, туда, куда не дадено заглянуть простым смертным, и увидел там при этом такие чудеса, такую прекрасную жизнь, что людям свою собственную не жалко положить и жизнь своих сыновей, и любые трудности вынести, лишь бы внукам и правнукам было хорошо. Уж они-то, ласточки, воспользуются плодами дел наших, снимут урожай с земли, политой кровью рабочих, крестьян, интеллигентов, военнослужащих, и загужуются от пуза.
В общем, Коля, задирают вожди свои головы, оглядывая третьим шнифтом печальный путь, пройденный людьми, спасти их хотят. Но пропасти впереди себя не видят. И тут уж не до хорошего. Дай Бог, чтобы внукам дышать чем было, дай им Бог водицы кружку и птюху хлеба на день, помоги нам, Господи, прекратить превращение одного из бесчисленных творений твоих – прекрасной земли – в камеру смертников, где обсасывают перед последней секундочкой жизни крошку хлебушка и слизывают с края оловянной кружки водички последний глоток!
Короче говоря, Коля, шел я тогда по зоне и думал, что если открылся у тебя третий шнифт и увидел ты общую муку палачей и казнимых, и понял – это исключительно между нами, Коля, – понял, что очень хорошо и сочувственно к ним ко всем относишься, то ты – нормальный человек. Кстати, важно в такой миг за несчастных помолиться. Но если, Коля, в миг этот страстно захотелось тебе всех и себя спасти, если задрожал ты от ярости и ненависти и показалось тебе, что просек ты истинную причину нечеловеческих мук и что, следовательно, надо мир переделать и так его, милого, перелицевать и устроить, чтобы тот, кто был Никем, внезапно, на обломках старой жизни, на баррикаде, стал Всем, Всем, Всем, то – держитесь, братцы, держитесь, голуби, держитесь, ласточки, – ты понесся, Коля, в вожди!.. Слушай, я же не о тебе лично толкую, ты никогда не будешь вождем. Ну зачем ты заводишься с пол-оборота? В общем, держитесь, голуби! Держитесь, ласточки, запасайтесь лекарствами! Сейчас вас начнет спасать очередной вождь. Вперед, мерзавцы! Вас, сук, носами в самую цель тычут, а вы упираетесь, пропаскудины, и еще хотите, чтобы я вас по головам гладил? Не дождетесь! Брысь вперед, негодяи! Кыш, лоботрясы, в светлое будущее! Руки прочь от Белоянниса!
Вывели нас в зону, значит. Поставили сбоку от вольняшек. Предупредили, конечно, что в случае побега шмальнут на месте. Речуги начали кидать. Сначала шоферюга на трибуну вылез пьяный, на ногах не стоит.
– Если бы, – говорит, – был на самом деле железный занавес, то и не узнали бы мы, что повязали греческие мусора Белоянниса Никоса. Занавес-то, он, господа поджигатели борцов за мир, с вашей стороны железный, а с нашей-то он завсегда прозрачный. На-кась выкуси! Правда, господа путешествуют без путевых листов, по-вашему без виз, и лучше давайте подобру-поздорову руки прочь от греческого народа и его старшего сына Никоса, не то я две смены зэков на погруз-разгруз возить буду.
Тут шоферюгу баба с трибуны сволокла и по харе, по харе его – бамс, бамс.
– Где, – говорит, – таперича получку евонную мне искать? Помогите, прогрессивные люди добрые, с окаянным Пашкой управиться. Фары опять залил бесстыжие! Руки прочь от жены и детей!
Шуганули их обоих. Чернолюбов мне шепчет:
– Теперь вы представляете, Йорк, какой у нас объем работы и снаружи, и внутри?
Я ответил, что хорошо представляю и все передам Галлахеру.
За шоферюгой кинул речугу молоденький начальник нашей каторги. Этот замандражил от возмущения на поступки классового врага, голос срывается.
– Где, – говорит, – ваша совесть и честь Эллады, вспомните Гомера, господа, Байрон кровь за вас проливал! Как вам не стыдно, как рука у вас поднялась посадить Никоса Белоянниса с гвоздикой в петлице, посадить в Тауэр? Опомнитесь! Вот что такое ваша хваленая демократия и свобода! Свобода кидать за решетку лучших сынов народа! Услышь нас, товарищ… – Тут, Коля, Дзюба что-то промямлил начальнику и смутил его. Все же Белояннис хоть и грек, но зэк. Смутил, и начальник начал сбиваться: то назовет Белоянниса товарищем, то гражданином, как посоветовал ему, наверное, Дзюба, то по новой товарищем и все историей стыдит греческое МГБ.
– Постесняйтесь Зевса! Призовите на помощь всю свою Афродиту! Не позорьте родины огня, пощадите больную печень Прометея, руки прочь от Манолиса Дэвис!
Зэки мои бедные вопят вместе с вольняшками и вохрой: «Руки прочь! Руки прочь от Эллады!» Потом вылезла на трибуну, Коля, начальница бабского лагеря, тоже вроде Дзюбы бывшая исполнительница кровавых романсов Дзержинского и Ежова, и говорит:
– Дорогие товарищи и вовсе не дорогие никому из нас граждане враги народа! Вот смотрю я на Анну Ивановну Ашкину в первых рядах, на председателя райисполкома, и думаю, в какой еще стране кухарка может руководить государством? В Англии? Нет! Во в США? Нет! Али в Гватемале? Нет! Или взять меня. Муж мой погиб в тридцать девятом году на боевом посту. Нагремшись шибко, взорвался в его руках наган, которым он вывел из строя лучших наших матерых врагов народа. Похоронила я Семен Семеныча и заступила на его место. И товарищи не подъелдыкивали меня поначалу. Поддержали советами, к мушке глаз приучили. Пошло тогда у меня дело. Пошло! А что было бы тогда со мной в Америке? Было бы! Подохла бы я под статуей Свободы без работы, и никто там женщине не доверил бы не то что электрических стульев, товарищи и граждане, а и револьвера плохонького не доверили бы. Присоединяю свой голос к протесту. Мы с тобой, Никось Белояннись!!!
Слезла с трибуны, слезы ее душат. «И кто же ему, родненькому, передачку принесет?» – вопит на весь митинг. Махнул Дзюба рукой Чернолюбову. Тот и взлетел, гремя кандалами, на трибуну. Горло ему сначала тоже сдавило. И повело, повело, повело.
– Реакция наглеет, пора взять ее за кадык… В какой еще отдельно взятой стране мы могли бы – и надзор, и заключенные – стоять вот так, плечом к плечу, и голоса наши сливаются в гневном хоре: «Руки прочь от Белоянниса!» В какой, скажите, стране? Мы просим послать месячный паек сахарного песка в афинские Бутырки и начать всенародный сбор средств на птюху и инструмент для побега Белоянниса в Советский Союз!
Тут Дзюба громко разъяснил, что зэки не имеют права называть Белоянниса и его гвоздику в петлице товарищами. Для нас, мол, он гражданин.
– Мы с тобой, гражданин Никос, ты не одинок! Мы все с тобой в твоей тюрьме! – заявил Чернолюбов. – И вновь перед нами со всей беспощадностью встает вопрос: «Что делать?» Бороться! Бороться за урожай, бороться за снижение человеко-побегов из застенков реакции. Бороться за единство наших рядов, бороться с крысами всех мастей и с желанием поставить себя в сторонке от исторической необходимости. Да здравствует… – (Тут, Коля, Дзюба дернул за цепь Чернолюбова.) – Да здравствует гражданин Сталин – светоч в нашей борьбе. Руки прочь от Арисменди Анджелы Белояннис! Свободу Корвалану! Смерть Солженицыну и академику-врагу Сахарову! Позор убийцам!
– Ну а теперь, друзья-товарищи и граждане-враги, – говорит Дзюба, – нехай выступает перед нами самая что ни на есть реакционная шкура мракобесия, которая шеф-поваром у Максима Горького работала и в суп евонный, а также во второе и в кофе каждый день плевала. Плевала и плевала из-за угла, а может, и еще чего делала, но признания не вырвали у нее органы. Иди, Марыськин, и отвечай товарищу Белояннису! Признавайся хоть перед ним, раскалывайся в злодействе и кто вложил в твою руку бешеную слюну! Выходи, гадина, на высокую трибуну! Живо, не то прикладом подгонят!
Смотрю, Коля, вышел из наших рядов человечишко. Первый раз я его тогда увидел, поскольку особа в высшей степени неприметная, из тех, которые стараются каждую секунду скрыться с чьих-либо глаз или же провалиться сквозь землю. Худенький человечишко, особенно какой-то жалкий, просто возненавидеть можно такого человечишку за одну только жалость, что чувствуешь к нему. И серый весь, как бушлат. Безнадега серая на лице. Нету жизни вроде бы в человечишке, и цепи даже на нем ни разу не звякнули, пока шел и поднимался он на высокую нашу трибуну. Долго кашлял, потом отхаркивался, а Дзюба приказал не сметь с трибуны никуда плевать, ибо тут ему не уха для Горького с расстегаями и на второе котлета по-киевски. Плюнул Марыськин в рукав и делает, Коля, совершенно для меня неожиданно, следующее заявление:
– Люди! Жить мне осталось недолго. Я – прекрасный, к чему уж скромничать, кулинар. Мой прадед, и дед, и отец были кулинарами. Я не служил у Горького, а работал шеф-поваром в «Иртыше» рядом с НКВД. И какому-то следователю в макароны по-флотски попал черный шнурок с неизвестного ботинка. Я был взят и сознался под пытками – у меня отбиты легкие, – что плевал в блюда Максима Горького. Не пле-вал! Не плевал! Я кулинар, люди! И я желаю звучать гордо! Руки прочь от Марыськина! Свободу Марыськину! У меня семья в Москве… жена… детишки…
Тут Дзюба ему в зубы – тык, тык, а человечишка, Коля, кровь сплюнул и по новой кричит:
– Руки прочь от Марыськина! Руки прочь! Свободу невинному человеку!
Что тут началось! Чернолюбов, гуммозник, возмущается неслыханной наглостью двурушника, поставившего свои интересы выше интересов партии. Дзюба вопит, чтобы призвал Марыськин руки прочь не от себя, а от Белоянниса, не то он ему все зубы выбьет и уксуса в рот нальет, чтоб больнее было. А Марыськин заладил одно:
– Руки прочь от Марыськина!
Вольняшки и мусора сволокли его с трибуны, и самосуд пошел. Ногами, ногами в рот метят, в рот, в губы, чтобы забить сапожищами в глотку нормальную просьбу невинного человека отстать от него, к чертовой матери, и отпустить на свободу. Ногами, ногами, Коля, а сами хрипят при этом, звери, ой нет, не звери, люди хрипят:
– Руки прочь от Белоянниса Лумумбы! Свободу Димитрову и Тельману!
А человечишко, с грязью осенней смешанный, отвечает им чистым и ясным голосом, откуда только силы у него брались:
– Руки прочь от Марыськина! Свободу Марыськину!
Дзюба нам орет:
– В зону, падлы! Цепей не терять!
На губах Марыськина пузыри кровавые, лицо он, Коля, в коленки все пытался уткнуть, чтобы уйти из жизни скрючившись, как в животе материнском, в цепях, бедный, запутался, но хипежит свое:
– Руки прочь от Марыськина! Свободу Марыськину!
Мы уж к зоне подходили, а я, поскольку оборачиваться на ходу нельзя, все кнокал и кнокал третьим шнифтом на тело, которое месили ногами мусора и вольняшки и стервенели оттого, что никак не удавалось им загубить в Марыськине свободную жизнь. И текли из третьего моего шнифта, Коля, счастливые слезы, ибо, пусть меня схавают с последними потрохами, пусть вынут душу мою, если темно, не встречал Фан Фаныч ни в одной из стран мира и ни в одной из его паршивых тюрем такого самостоятельного человека, как подохший в осенней грязи Марыськин. Вечная ему слава и вечный ему огонь!
Вот такой, Коля, компот и такие пироги, как любят говорить наши внешние, а также внутренние враги…
12
А со шнифтом моим третьим стало мне жить в забое крысином намного легче. Привел нас туда Дзюба поутрянке на следующий после митинга день и говорит, чтобы норма была перевыполнена на пять крыс, не то будем работать и в воскресенье. Беру я обушок от кайла, замечаю все крысиные ходы и выходы, баррикадирую их, паскудин, и как покажется где мерзкая крысиная рожа, я ей обушком промеж рог и врезаю, и крысе – кранты. Чернолюбов присвоил мне звание Ударника Коммунистического Труда и велел выполнить с ходу годовое задание, а Дзюба увеличит дневную норму убийства крыс – и все мы в глубокой жопе. Да и крыс таким образом можно по-быстрому ликвидировать, и тогда неизвестно, с какими тварями нам придется бороться, ибо я очень мандражу летучих мышей, пауков, мокриц и прочей пакости, ни в чем, впрочем, перед нами не виноватой. Или муравьев нам Дзюба подкинет, а с ними бороться потрудней, чем с крысами.
Убедил я товарищей, хотя был заклеймен как тред-юнионист, прагматик, кулак, мещанин и белогвардейская дрянь. Я, видишь ли, отказался установить мировой рекорд истребления крыс политкаторжанами. Глушу я, значит, потихонечку каждую смену крыс, только вот ихний вождь, почему-то прозванный Жаном Полем Сартром, все не попадается со своим бельмом на глазу и длинным холодным хвостом. Наверное, он подзуживал крысиные массы к атаке и последнему решительному бою, а сам наблюдал из своей норы или из щели какой-нибудь за нашими сражениями.
Глушу, Коля, крыс потому, что если их не глушить, то они все ноги обглодают, и просто потому, что противно. Я глушу, а товарищи рады. Фан Фаныч работает, они же благодаря ему трекают целую смену о расстановке сил на международной арене, трагедии Португалии, Испании, Югославии, скромности и простоте Ильича, нежном сердце Дзержинского, железной логике Сталина и что при коммунизме всех сразу освободят. Чернолюбов также разработал в деталях ультиматум Англии. Ей предлагалось в недельный срок выкопать шкелетину Кырлы Мырлы с Хайгетского кладбища и переправить самолетом для перезахоронения на истинной родине социализма, на Красной площади, и положить, надев костюм с бородой, рядом с лучшим учеником в Мавзолее. Если же Англия, сука такая, откажется выдать гениальную шкелетину, то с ней надо немедленно порвать все дипломатические отношения, а штат посольства держать как заложников до тех пор, пока английский народ не скажет своего гневного «нет!» королеве и ее послушному рабу – парламенту. Ультиматум этот решили вручить Дзюбе для передачи Черчиллю. Если тот откажется передавать, сославшись на то, что нынче в огороде дел много, а баба беременна, тогда Чернолюбов предложил вырвать из челюстей всех товарищей золотые фиксы и подкупить шоферюгу Пашку. Тот бросит конверт в ящик, и останется только ждать, когда палата общин вцепится в глотку палаты лордов. И все дела.
И еще Чернолюбову всю дорогу было интересно, как это я так метко и неожиданным поворотом на сто восемьдесят градусов поражаю обушком крыс.
– Как вам это, Йорк, удается?
Я говорю, что мне это удается потому, что я смотрю не вперед, как некоторые, а назад и хорошо вижу в абсолютной темноте.
– Английские товарищи могут вами гордиться, Йорк!
Тут я, Коля, немного пошухерил. Без шуток Фан Фаныч будет лежать исключительно в сырой земле, в деревянной дубленке и в последних шлепанцах, а пока жив Фан Фаныч, он, несмотря ни на какие удары рока, намерен восхищать свою бедную и несчастную душу волшебным смехом!
Я что сделал? Нацарапал острым камушком на породе слова, сдул крошки, с понтом этим словам лет сто, и говорю коллегам по каторге:
– Обнаружена надпись на камне. Необходимо ее разобрать. Кто сможет?
Начал Чернолюбов читать на ощупь, шепчет, слышу, слезы глотает и говорит:
– Товарищи! Трудно в это поверить! Это кажется осязательной галлюцинацией! Слушайте же! Здесь написано дореволюционным русским языком: «Раньше сядешь – раньше выйдешь. Кюхельбекер. 1829 год».
Товарищи! Мы сделали не просто историческое или палеографическое открытие! Оно смело выходит за целый ряд замечательных рамок! Оно говорит о том, что обрусевший ум великого декабриста в условиях царской каторги, объективно являвшейся, как мы теперь видим, катализатором мыслительного процесса, оставил далеко позади себя громоздкую и многотонную диалектическую систему идеалиста Гегеля. Диалектика Кюхельбекера, этого духовного вождя политкаторжан, предельно проста: раньше сел – раньше вышел. Мы с вами не раз горько жалели, что не были на Сенатской площади. Но дело не в этом, не в нашей доброй партийной зависти к давно освободившимся товарищам. Дело в том, что наш Кюхельбекер открыл теорию относительности задолго до господина Эйнштейна. Ибо «раньше» – категория времени, а «сесть и выйти» – категории пространства. Мы можем считать бессмертный афоризм Вильгельма универсальной формулой, объясняющей все закономерности общественно-политического процесса национальной и государственной жизни России. Я уж не говорю о том, что формула словесная лучше цифровой и не удалена на космические расстояния от широких масс. От каждого из нас. Теперь вы понимаете, что я был прав? Теперь вы понимаете железную логику, историческую правоту и мужество Сталина, скрепя сердце пошедшего на массовые репрессии намного раньше, чем ему советовали Бухарин и компания, и охватившего этими репрессиями все пространство первого в мире социалистического государства. Вот что такое марксистское понимание релятивизма времени и пространства. Господа Троцкие, Каменевы и Зиновьевы подбивали партию пойти на то, чтобы мы сели намного позже. Партия сказала им: «Нет!» И мы выйдем, товарищи, намного раньше. Карта врага бита. Да и остались ли у него козыри вообще? Да здравствует Кюхельбекер – великий диалектик России и ее революционного процесса! Ой! Бейте Сартра! Куда же вы смотрите, Йорк? Бейте же Сартра! Это он! Он больно кусается!
Сартра, Коля, мне тогда глушануть не удалось, но хвост я ему, по-моему, перебил.
Дорогой мой! Ты заметил, что я начал трекать о крысином забое и прочей прелести, и мы с тобой давно не пили за зверей, заключенных в клетку? Заметил. А что ты скажешь, если я тебе предложу выпить за крыс? Для зоопарков они интереса не представляют, их все больше держат в лабораториях для опытов, но, между прочим, Коля, какими бы омерзительными и гуммозными ни представлялись нам эти создания, им тоже больно от жизни, ран и голода, и если можно было бы взять мою боль – вот я прижег сигаретой ладошку – и боль крысы после того, как и ей – мерзости – прижгли бы лапу, то, поверь мне, Коля, нельзя было бы отличить друг от друга две наши боли. Нельзя! Человеческая боль ни на слезинку, ни на крик или же обморок не больше боли бабочки, коровы, орла или крысы. Не больше. Это все, что я хорошо знаю. И ладошку, дурак, я себе прижег зря. Но зато давай выпьем за все живое и за то, чтоб любой живой твари или совсем не испытывать боли, или же испытывать любой живой твари боль эту как можно реже. Как можно реже.
И вдруг, Коля, я освобождаюсь. Причем воистину неожиданно. После того митинга, когда руки прочь от Белоянниса и затоптали насмерть Марыськина, Дзюба к нам в барак больше не заявлялся.
Информашки не получаем никакой. Пару раз, впрочем, ветер заносил в зону обрывки заблеванной «Правды» и ржавой послеселедочной «Комсомолки». Так мои партийцы что-то узнали о корейской войне и работе Сталина насчет языкознания. Сам понимаешь, хавали они эту информашку с полгода. Дискуссии у них были, расколы, выговора, снятие выговоров, партконференции, какие-то саморефераты, самочистки, и наконец Чернолюбов всех убедил, что Сталин, как всегда, прав.
– Все дело в языке. Партия и народ говорят иногда на разных языках, и это тормозит движение идеи к цели. Партия, например, сказала: «Надо!!!» А народ ответил: «Будет!» И партия уверена, что «будет» – это высокое обещание народа помереть, но воплотить в жизнь историческое какое-нибудь постановление. Но постановление не выполняется, хотя бедной партии в голову не могло прийти, что оно может не воплотиться и не выполниться. Партия спокойно сочиняет другие исторические постановления, по наивности не подозревая, что народ гадит ей втихомолку, пьянствует, ворует, не выводит, негодяй-народ, родинок капитализма. И только после тщательного расследования, проведенного нашими славными органами, – сказал Чернолюбов, – вдруг оказывается, что на языке народа «будет» – синоним «хватит».
И если бы он, Чернолюбов, оставался членом ЦК, то он обратил бы на это внимание партии и пропаганда вредительского лозунга была бы задушена в самом зародыше. «Надо» и «будя» – слова-антагонисты. Нужна беспощадная жестокая сила, чтобы заставить народ преодолеть языковой барьер!
Спели «Интернационал», провозгласили здравицу в честь гениальной сталинской интуиции, расставили фишки на самодельных международных аренах, и по новой тупо потекла мутная крысиная жижа наших ночей и дней.
Подпольные большевики даже не знали, что Сталин врезал дуба, а Берию шмальнули вместе с некоторыми его партнерами.
Но вдруг, Коля, начали их дергать по одному. Причем дергают с концами. Не возвращаются товарищи. О свободе я, честно говоря, не думал, потому что не сомневался, что советская власть – это всерьез и надолго. Остался я в бараке с Чернолюбовым. Режемся с ним целыми днями в буру. Карты я замастырил из «Краткого курса». Вырезал трафаретики мастей, тушь заделал, полкаблука сжег, а сажу на моей моче развели. И начали мы биться. Он сначала в мастях путался, а потом освоился и понес меня. Подряд выигрывал по десять и больше партий. Попал Фан Фаныч за все ланцы. Сижу полуголый на нарах, завернутый в казенную простынку, и соображаю, за что мне такая невезуха. Но остановиться не могу, я в бою заводной. Начал, чтобы отмазаться, играть в ста партиях сахарок. Попал до пятидесятилетия советской власти. Партнер, пользуясь преимуществом, давил на меня и настоял на отмеривании времени разными датами. Второй месяц бурим. И по новой я попадаю! Попадаю, словно я с самим чертом играю на хлебушек до пятидесятилетия органов, на баланду до столетия со дня рождения Сталина, на вынос параши до такого же столетия Ленина, на уборку барака до установления советской власти в кладовке капитализма – Швейцарии.
Отплываю, Коля, отплываю. Горю естественной смертью. И сгорел бы как пить дать, если бы Чернолюбова вдруг не дернули. Дернули гада с вещами!
– Если, – напоследок говорит, – Йорк, вам удастся освободиться, передайте коммунистам мира, что, несмотря на некоторые ошибки, наш путь и наш опыт являются идеальной моделью для пролетариев всех стран. Победа не за горами. Доешьте уж мою пайку. Мы, коммунисты, – народ гуманный!
Я дожевал хлебушек. Не до жиганской гордости тогда было мне. Вскоре баланда влетела в кормушку, а поутрянке и сахарок с кипяточком. Ожил Фан Фаныч, а ведь одной ногой был там…







