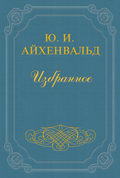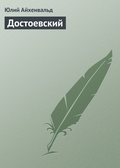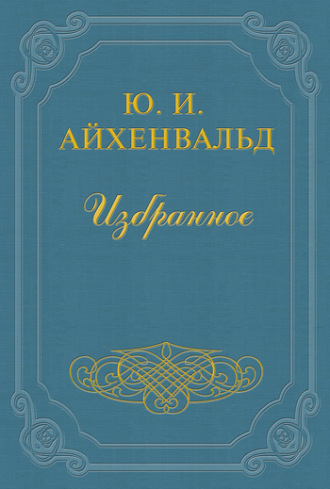
Юлий Исаевич Айхенвальд
Лев Толстой
Толстой любит своих героев, хотя любовь его – какая-то особая, величественная, будто не эмоциональная. Он всегда спокоен, поэт без пафоса; о самом трогательном рассказывает он без сентиментальности, и это не он, а мы с трудом удерживаемся от слез, когда Каренина навещает своего покинутого Сережу или когда мы читаем эти бессмертные, единственные в мире и в мир невозвратимо входящие страницы о том, как светлым и реальным привидением явилась к смертному одру Болконского, среди его томлений и бреда, «живая, настоящая» Наташа, «быстрым, гибким, молодым движением опустилась на колени» и, «взяв осторожно его руку, стала целовать ее, чуть дотрагиваясь». Этой своей объективной манерой он, потрясающий, но не потрясенный, еще более оттеняет и усиливает впечатление, идущее от его книг. Ему чужд энтузиазм, его не отличает интимно-лирическое настроение, и в повести «Поликушка», где передана такая ужасающая трагедия, даже неприятно слышать его как будто шутливый тон; но эта частность исчезает в тихой глубине его любовного миротворчества и спокойствия, его нравственной щедрости, его потребности щадить. Как бы ни были дурны его отдельные персонажи, он их не казнит, и не только веселая пошлость Стивы Облонского не написана у него в красках отталкивающих и презрительных, но даже порочная Элен Куракина сопричастна той светлости, которой у него всегда проникнута девушка-невеста. Элен не любит Пьера и выходит за него из расчета, но в тот час, когда она ждет из его уст признания в любви, она искренне счастлива, обвеяна чем-то хорошим, и кажется, что самые «огни свечей сосредоточены на этих двух счастливых лицах», ее и Пьера, и это она своею молодостью и красотою, за которые ей многое прощает Толстой, – это она вызывает в старых, отживших людях, в дипломате и генерале, чувства грусти и тоски по утраченном, давно улетевшем счастье. И брат ее, развратный Анатоль, в последний раз, в завершающем явлении своей злой жизни, выступает перед нами как боль, как мука, и он вызывает к себе сострадание, и последнее назначение его, конечный смысл его существования, заключается в том, чтобы смягчить и растрогать сердце Андрея, – да и его ли одно? Или этот гусар, обидевший Лизу; лунная ночь принесла и для него «свои миротворные дары какой-то успокоительной грусти и потребности любви… Боже, какая ночь, какая чудная ночь! – думал граф, вдыхая в себя пахучую свежесть сада. – Чего-то жаль. Как будто недоволен и собой, и другими, и всею жизнью недоволен. А славная, милая девочка. Может быть, она точно огорчилась»… Или опять этот сухой Каренин, сановник во фраке со звездой. Его покинула жена, и, может быть, немногие пожалеют его; но на другой день после ее отъезда ему принесли счет из модного магазина, по забывчивости не оплаченный Анной, и приказчик сказал Каренину: «Извините, ваше превосходительство, что осмеливаюсь беспокоить вас. Но если прикажете обратиться к ее превосходительству, то не благоволите ли сообщить их адрес». Адрес жены, которая безвестно ушла и от которой остался этот ужасный по своей прозаичности и тонкой мучительности след – счет из модного магазина, счет за платье, которое она, любимая, желанная, обидевшая, будет надевать не для него, мужа! Какое терзание, какая тоска! И «Алексей Александрович задумался, как показалось приказчику, и вдруг повернувшись, сел к столу. Опустив голову на руки, он долго сидел в этом положении, несколько раз пытался заговорить и останавливался». Кто же теперь увидит в нем сановника, а не человека, не брата, которого Толстой, по его замечательному выражению, забрал в «путину» своей любви? Ибо все достойны ее, ибо всякий «Богу-то человек», и все мы на счету у Него и у него, Толстого…
Уменье находить светлую жизнь и душевную красоту здесь, в буднях, под пластом смешного, неинтересного, сухого, любовь к обыкновенному и обыкновенным, неодолимое влечение к простоте удерживают Толстого и в пределах более глубокой обыденности, т. е. не пускают его в сферу мистики. Свой в мире, он не знает начала домирного, предземного, и хаос, тютчевская ночь не близки ему. Конечно, он слишком велик и всеобъемлющ, для того чтобы его не коснулась и эта грань, отделяющая космос от хаоса, и не раз он смотрел, по его собственному слову, в те «отверстия», сквозь которые видно сверхчувственное, и, прежде чем открылась весна, он заметил, что надвинулся густой серый туман, «как бы скрывая тайны совершавшихся в природе перемен», – но и сюда, в эту загадочность и мглу, вносит он свой реализм. Он никогда не испытывает робости. И к тайнам подходит он разумно. Он не боится войти в темную комнату. Толстой не верит, чтобы какой-нибудь злой дух осенил огромным крылом вселенную, и так характерно отрицает он в «Поликушке» власть этого духа и говорит о жутком страхе мужиков перед телом самоубийцы: «Не знаю, справедливо ли это было. Я даже думаю, что вовсе не справедливо. Я думаю, что если бы смельчак в эту страшную ночь взял свечку или фонарь и, осенив или даже не осенив себя крестным знамением, вошел на чердак, медленно раздвигая перед собой огнем ужас ночи, то он увидел бы знакомое, худощавое тело… и доброе лицо с открытыми, не видящими глазами, и кроткую виноватую улыбку, и строгое спокойствие и тишину на всем». Этот смельчак – сам Толстой; он не думает, чтобы немыслима была такая свеча, огнем которой можно было бы рассеять весь ужас человеческой ночи. «Власть тьмы» для него временна, уничтожима. У него – мир без дьявола. Правда, в посмертных сочинениях у него появляется дьявол – в виде определенной и, может быть, всерьез принимаемой реальности. Тот мельком упоминаемый дьявол земной любви, которого отгоняла от себя княжна Мария Болконская, – в «Отце Сергии», «Дьяволе», «От ней все качества», «Что я видел во сне», представляет собою уже постоянную силу – поистине нечистую силу. Но замечательно, что и здесь, в посмертных произведениях, толстовский дьявол, во-первых, не дидактичен и ему противопоставляется не аскетизм, не презрение к женщине, а милое, нежное лицо Лизы, его блаженное и страдальческое выражение, провозвестник зреющего материнства, ее длинные волосы, ее длинная влажная рука, которую тихо целовал Иртенев; и, во-вторых, он, дьявол, все-таки не обвеян мистикой, он все-таки сближен с самыми реальным и фактами. Нет жути, не слышится ледяное дыхание потустороннего мира. Толстой вообще роднит страшное с обычным и в том же «Поликушке», например, в будни претворяет стихию Достоевского. Он фантасмагории придает правдоподобие, и хотя для читателей ясно, какую мистическую роль сыграла в жизни Анны Карениной железная дорога, но сон героини, ее кошмар, этот мужик, копающийся в железе, такие глубокие корни имеет в действительности; страшное обволакивается здесь именно вокруг мужика, вокруг излюбленного толстовского мужика. Или, говоря о рождении ребенка, писатель указывает, что «как огонь над светильником колебалась жизнь человеческого существа, которого никогда прежде не было и которое так же, с тем же правом, с той же значительностью для себя будет жить и плодить себе подобных», – но эта великая тайна рождения так неразрывно, так неизбежно связана у нашего реалиста, у нашего натуралиста с обыкновенностью, с болью и благом человеческого тела, что загадочное слабеет в этом своем качестве, как загадочное, и, волнуя, умиляя, возвышая, сливается, однако, с общей тканью повседневности, подобно тому, как незаметно переходят друг в друга явь и сновидение, – за этим так часто и внимательно следит Толстой (вспомните один из многих примеров – страшную и прекрасную «Метель»).
Вообще поразительно в нем, что при своей гениальности он вовсе не утончен, – чужда ему не только современная больная или изысканная утонченность, непонятен ему не только Меттерлинк, но и вообще его талант и его душа как бы вырублены топором. Это и производит совершенно исключительное, мы бы сказали – космическое, впечатление. Его стремление к простоте имеет углубленный, вещий, философский смысл. Его простое – не внешний прием, не художнический метод, не литературное направление: его простое, это – метафизически-простое, самое ядро, самая субстанция бытия. Его простое – это целое миросозерцание, это именно та обобщающая синтетическая формула, которой он объединяет все предметы своего творчества, как ни разнообразны и далеки они друг от друга; это – та живая сердцевина стихийности, которую он хотел бы открыть, открыть даже во всех отщепенцах естества, под наносными песками культуры. Любимый сын природы, он остался так похож на нее, удержал от нее столько первобытности и, как бы высоко ни поднимался в титанической мощи своего дарования, сохраняет неразрывную связь со своею матерью. Именно любовь к ней, любовь не нежная, а грубая, та самая, которою, вероятно, любил Землю и сын Земли Антей, – как раз она является главной психологической основой того призыва к опрощению, который звучит на протяжении всей деятельности Толстого. Это так замечательно: он – аристократ по своему рождению и воспитанию, и, что еще важнее поверхностного аристократизма, внешних перегородок, он – аристократ духа, единственный носитель гения, блестящий метеор среди человеческой заурядности – и это ослепительное исключение всегда тяготело к самому обыкновенному людскому правилу, ко всему будничному и серому, ко всякой обыкновенности; знаменательно контрастируя самому себе, Толстой всеми физическими и духовными нервами своей натуры всегда несокрушимо привязывался к людям простым; всегда противопоставлял он бедных и богатых, хозяина и работника, батраков и бар и все свои симпатии отдавал бедному, работнику, батраку. Вопреки своему положению в обществе и в мире, не дорожа своим престолом, венцом таланта и славы, он хотел быть не единственным, не одним, а одним из многих, – и даже на смертном одре своем, в муках и боли, для всех окружающих, для близких и далеких, самый дорогой и важный, необходимый и незаменимый, – он сетовал, что на нем одном, только на Льве, сосредоточилось так много заботы и участия. И так искренне проведена у него эта антитеза богатства и бедности, избранничества и обыкновенности, и так он одержим ею, что она не создает впечатления навязчивой тенденциозности – даже в столь явных «Ягодах». Уже в раннем отрывке, в «Утре помещика», где описано стремление князя Нехлюдова облегчить крестьянскую долю (стремление внутренне бессильное, так как рабам нельзя даже помочь, рабам можно только вредить, особенно если к ним подходит рабовладелец), – уже там герой мечтает, как бы сбросить с себя свой княжеский титул и блеск роскошной жизни и претвориться в существо, менее удаленное от природы. Ропщет князь, зачем он не ямщик, не этот Илюшка, который спит теперь здоровым, беззаботным сном и видит такие хорошие сны: «Киев с угодниками и толпами богомольцев, Ромен с купцами и товарами, – видит Одест и далекое синее море с белыми парусами, и город Царьград с золотыми домами и белогрудыми, чернобровыми турчанками, куда он летит, поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и легко летит все дальше и дальше и видит золотые города, облитые ярким сиянием, и синее небо с чистыми звездами, и синее море с белыми парусами – и ему сладко и весело лететь все дальше и дальше…»