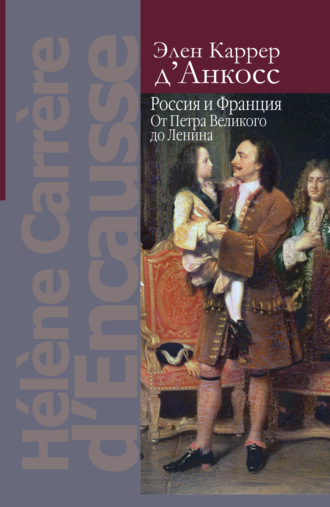
Элен Каррер д'Анкосс
Россия и Франция. От Петра Великого до Ленина
Глава 4. Петр III: Ослепление Пруссией
5 января 1762 года 34-летний Петр Гольштейн-Готторпский, наследник, выбранный императрицей Елизаветой, предстал перед армией в качестве нового императора. Его приветствовали без большого энтузиазма, но, тем не менее, он был коронован как царь Петр III. В конечном счете он являлся внуком Петра Великого. На трон взошел Романов мужского пола, наследование по мужской линии восстановилось, казалось, все встало на свои места. Да, новый император не пользовался популярностью, его детские игры с батальоном голштинцев и казарменные вкусы вызывали удивление. Однако его правление началось под благоприятной звездой, поскольку в своем февральском манифесте (о вольности дворянства) Петр III освободил дворянство от обязанности государственной службы, которую навязал ему Петр Великий. К этому решению, принесшему ему благодарность дворянства, добавились упразднение Тайной канцелярии, которую посол Англии по силе внушаемого ею страха сравнивал с испанской инквизицией, и смягчение отношения к староверам. Последние до сего момента подвергались преследованиям, а теперь у них появилась возможность либо вернуться в Россию, либо попросить землю, позволяющую им вести достойное существование в Сибири. Государственные мужи, сосланные в предыдущее царствование, – Миних, Бирон, Лесток и некоторые другие – могли наконец покинуть места ссылки. Не означало ли это начало правления умеренного царя?
В то же время столь мудрым мерам противоречат решения, вызвавшие возмущение общества. Открыто враждебное отношение к государственной церкви, которой Петр III с самого начала выражал презрение оскорбительными жестами. Реформирование русской армии по образцу прусской в том, что касается обмундирования, шагистики и фрунта, заимствованных у войск Фридриха II. Двор также должен следовать немецкой моде и правилам этикета; все чисто русское в одночасье запрещено. Нескольких недель хватило, чтобы новый император потерял всякую поддержку.
Но самым страшным было другое – пренебрежение русскими национальными интересами ради интересов Пруссии. После Кунерсдорфского сражения Фридрих II понимал, что война им проиграна, несмотря на то что Бутурлин не спешил воспользоваться преимуществом, которое поражение Пруссии принесло русской армии. Восшествие на престол Петра III возродило надежды прусского короля. Он незамедлительно передал ему свои поздравления через посла Англии. Воронцов заявил: «Мы желаем мира, но для его заключения нужно действовать совместно с союзниками». Петр III, проигнорировавший его слова, решил приступить к мирным переговорам с посланником Фридриха II бароном Гольцем незамедлительно. Еще до начала переговоров, не проконсультировавшись с союзниками, русский император сделал множество дружественных жестов в адрес Фридриха II, в частности освободив и отпустив по домам более 600 прусских офицеров и солдат. Затем он направил австрийской императрице угрожающее послание, «настоятельно советующее» ей заключить перемирие с королем Пруссии и начать переговоры о мире.
Фридрих II разрешил своему полномочному послу уступить России Восточную Пруссию, если император того потребует, ради скорейшего заключения мирного соглашения. К великому удивлению барона Гольца, его собеседник говорил лишь о своих дружественных чувствах к Фридриху II, демонстрировал кольцо, украшенное портретом короля Пруссии, и оставался безучастным к конкретным примирительным предложениям, с которыми пришел к нему Гольц. Петр сказал барону, что не только не собирается требовать Восточную Пруссию, но и намерен вернуть Фридриху II все завоеванные Россией территории. Он также предложил королю Пруссии самому написать текст мирного договора, уверяя, что подпишет его без возражений.
Русско-прусский договор от 5 марта 1762 года закреплял наступательный и оборонительный союз России и Пруссии. Две страны обязывались оказывать друг другу помощь. Фридрих II вернул новому другу его гольштейнские области, а его дяде – герцогство Курляндское и обещал свою поддержку в решении польских вопросов. Произошла полная перетасовка союзов.
Для Франции это было тяжелым ударом. В Версале еще с февраля знали, что российский император хочет выйти из войны. Когда Петр III официально информировал об этом союзников, Людовик XV напомнил, что он также давно стремится к миру, но добавил, что не согласен с секретными сделками: в мирных переговорах должны участвовать все союзники и договор следует заключать на основе общего консенсуса. Безусловно, подписав мирный договор, Петр III выразил свое стремление способствовать общему урегулированию конфликтов в Европе, но в то же время он нарушил все договорные обязательства России перед ее союзниками. Он также предложил свою кандидатуру в качестве посредника между Пруссией и Швецией.
Если Франция не одобряла манеру действий нового императора, то еще большее сожаление она вызывала у австрийской императрицы, одной из тех, кто проиграл сильнее всего. Императрица Елизавета всегда поддерживала ее претензии на Силезию и Глац, а русско-прусский договор уничтожал всякую надежду на их получение.
Англия была также очень недовольна примирением России и Пруссии. Она имела тесные отношения с Пруссией, но Фридрих II даже не счел нужным уведомить ее о своем намерении заключить мир с их общим врагом. Только Швеция, удовлетворенная ситуацией, поспешила последовать примеру Петра III. Шведские армии совсем не блистали на полях сражений, экономика страны страдала от нескончаемого конфликта, народное недовольство выражалось все более открыто. Потому король Адольф-Фридрих решил пойти по стопам племянника в его миротворческих действиях, к великой радости королевы – сестры Фридриха II. Мир закреплял довоенный территориальный статус обоих государств, в то время как Франция с его заключением теряла союзницу, которую всегда поддерживала. Польша имела все основания сожалеть об этом мирном договоре, поскольку Петр III всегда относился к ней враждебно и хотел, как все знали, посадить на трон Курляндии своего дядю принца Георга Гольштейн-Готторпского. Об этом намерении, кстати, говорилось в секретной части русско-прусского договора.
Хотя Петр III заключил мир с Пруссией, война на этом не закончилась даже для русских войск. Нужно было еще победить Австрию, и не успели высохнуть чернила в подписях на мирном договоре, как русские и прусские войска столкнулись с австрийской армией в Саксонии. Петр III объявил, что встанет во главе армии для завоевания Шлезвига. Русский народ, поверивший, что с восшествием Петра на престол наступит мир, воинственных намерений царя не понимал и не разделял.
Поэтому понадобилось совсем немного времени, чтобы император, сначала встреченный с общим безразличием и усталостью от бесконечной войны, а затем возбудивший кратковременную надежду своим примирением с Фридрихом II, стал крайне непопулярен. Тем более что любовь к Пруссии толкала его к решениям, шокирующим подданных. Он широко распахнул двери страны и ее управляющих органов для многочисленных немцев. Амнистия, объявленная в начале его царствования, больше благоприятствовала сосланным немцам, чем русским: Бестужев оставался в ссылке, в то время как Миних с триумфом вернулся в столицу. К этим причинам недовольства добавился начавшийся кризис в отношениях между императором и русской церковью, который усугубил разногласия между императором и его подданными, задетыми его стремлением уничтожить русскую самобытность, онемечив страну и ее органы власти. Русофобия породила у императора стремление реформировать православную церковь, государственную и автокефальную, в духе и по образцу ритуалов протестантизма, религии Петра III по рождению! Вся церковь в едином порыве восстала против этого проекта при поддержке многочисленных верующих, и в начале царствования никто еще не знал, какие масштабы приобретет этот конфликт.
Уже не на полях сражений закончившейся войны, но в своих реформаторских порывах Петр III очень скоро столкнется также с внешним миром, и прежде всего с Францией. Едва взойдя на трон, Петр III известил представителей иностранных государств в России, что те должны будут пройти процедуру, сильно напоминающую новую аккредитацию. Их верительные грамоты, представленные уже давно, будут иметь силу только после того, как они явятся к принцу Георгу Гольштейн-Готторпскому, которого император только что назначил фельдмаршалом. Представители Франции (барон де Бретёйль), Австрии (граф де Мерси-Аржанто) и Испании (маркиз Альмодовар) возмутились. Что за странный протокол? Они согласны следовать ему, только если принц Гольштейн-Готторпский возьмет на себя инициативу его применения, объявит им о своем назначении и попросит их отдать ему визит. Бретёйль информировал обо всем своего министра, и тот поддержал его. Петр же усилил напряженность, угрожая послам потребовать их отзыва, если они не перестанут упрямиться. Странный протокольный инцидент приобрел неожиданные масштабы, создавая угрозу затронуть всю систему дипломатических отношений России. Дело дошло до того, что чуть не оказался под сомнением императорский титул Петра III, признание которого Россия пыталась вырвать у Франции со времен Петра Великого и Елизавета наконец добилась от Людовика XV. В ходе протокольного кризиса 1762 года Версаль сделал нестерпимое для русской монархии уточнение: императорский титул признан за Елизаветой лично и не может передаваться ее потомкам. Барон де Бретёйль предложил русскому монарху решение, которое могло бы затушить пожар. Он нанесет принцу Гольштейн-Готторпскому требуемый визит, и Франция сохранит за Петром императорский титул. Но после подписания русско-прусского договора о дружбе эти дебаты уже не имели значения. Барона де Бретёйля отозвали на родину. Он рассказал своему министру о ситуации в России, о растущей непопулярности государя, о несогласии внутри имперской четы, которое могло привести к расторжению брака и замене императрицы выбранной Петром фавориткой. Подробно описал личность Екатерины, безусловно немки, но глубоко привязанной к России и любимой за это русскими. Бретёйль также подчеркивал близость между Екатериной и наставником ее сына графом Никитой Паниным, опытным дипломатом, учившимся этой профессии в Дании, а затем в Швеции. Его вернули оттуда, чтобы доверить ему образование юного цесаревича Павла, будущего Павла I. По поводу столь спорного наследования Елизавете Панин предлагал альтернативное решение: передать корону его ученику, введя его самого в качестве воспитателя молодого государя в регентский совет. Проект не был принят, но Панин остался близок с Екатериной и ее подругой и доверенным лицом княгиней Дашковой, племянницей, а затем любовницей Панина. Эта троица, обеспокоенная эксцентричными выходками Петра III, привлекла внимание Бретёйля, о чем он и сообщил своему министру.
В Версале недовольство Россией смешивалось с беспокойством. Там крепло убеждение, что Петр III со своими пруссофилией, непредсказуемостью и незрелостью представляет опасность для Европы. Но никто не знал, как ее устранить. Еще будучи послом в Петербурге, маркиз де Лопиталь писал министру Берни: «Со смертью императрицы в России произойдет переворот. На трон нельзя допускать великого князя». Но кто может его заменить? В очередной раз подумали об Иване VI, несчастном узнике Шлиссельбургской крепости. С тех пор как его туда заточили, никто ничего о нем не слышал, никто даже не знал, жив ли он еще. Замысел передать корону через поколение великому князю Павлу сразу же стал невыполнимым из-за торопливости, с какой Петр завладел троном. Что же касается Екатерины, супруги, которой грозило отправиться в изгнание, дабы уступить место дочке канцлера, больше походившей, по словам барона де Бретёйля, «на служанку с постоялого двора», эту Екатерину в Версале еще никто не знал. В основном были известны список ее любовников и ее постоянная потребность в деньгах. Бретёйль ускорил ход событий, донеся до Версаля рассказ о тяжком инциденте во время одного ужина, когда Петр III приказал арестовать Екатерину. Принц Гольштейн-Готторпский, обеспокоенный скандалом, заставил племянника отказаться от этого намерения. Но Екатерина понимала, что ее дни сочтены, и обратилась к барону де Бретёйлю, прося денег на финансирование заговора, о существовании которого она ему рассказала. Бретёйль готовился к отъезду, ему обещали посольство в Стокгольме, и идея скомпрометировать себя участием в рискованном заговоре, о котором он даже не знал, его не прельщала. Он потребовал подробностей, ответил, что не может действовать без одобрения своего правительства, и попросил свидетельство, написанное Екатериной собственноручно. Еще до получения ответа он в спешке покинул столицу, поручив своему сотруднику Беранже следить за ходом дела, как тому заблагорассудится.
Двумя десятилетиями ранее Шетарди проявил больше смелости. Барон де Бретёйль, спеша навстречу новому повороту в своей карьере, даже не известил Версаль о разыгрывающейся драме, которая во многих отношениях повторяла сценарий 1742 года. Тогда Елизавета опасалась заточения в монастырь, и объединившиеся вокруг нее заговорщики ускорили осуществление своих планов, поскольку намечавшаяся война против Швеции означала, что гвардия, в которой они служили, будет отправлена на фронт.
Беранже доложил в Версаль, что Петр III наслаждается веселой женской компанией в своей любимой резиденции Ораниенбауме, тем самым давая понять, что срочности нет. Он даже уверил министра, что за десять дней предупредит его о начале операций заговорщиков.
В такой-то атмосфере и начался государственный переворот 28 июня 1762 года. Он повторял тот, что привел к власти Елизавету. На первом плане действовала гвардия, организовала заговор блистательная четверка братьев Орловых; один из них, Григорий, был любовником Екатерины. Екатерина, зная о роли, которую играла гвардия в различных дворцовых переворотах, возможно, сознательно выбрала любовника из ее рядов, тем более – одного из четырех братьев. Ее влияние на гвардию стало от этого еще сильнее и ощутимее. Алексей Орлов представил ее трем специально собранным полкам, которые приветствовали ее, принесли ей присягу и возвели на престол, как это произошло и с Елизаветой. Застигнутый в своем уединении Петр III пытался бежать, хныкал и, когда его арестовали, заявил, что готов отречься. Императрица отправила его под охраной в Ропшу, где, по официальной версии, он скончался 4 дня спустя от геморроидальной колики. Официальной версии очень скоро пришли на смену слухи, будто Екатерина приказала убить мужа, быстро распространенные такими историками, как француз Рюльер. Однако имела хождение и другая версия, о записке Алексея Орлова Екатерине, где он уверял, что «наш дурак подох в ходе ссоры, которую сам же затеял». Смерть в результате пьяной драки осталась наиболее правдоподобным объяснением конца ненавистного императора. Но, какую причину ни приводи, для Екатерины эта смерть оказалась очень удобна, поскольку избавляла ее от угрозы, которую могли бы представлять для нее сторонники Петра, если бы тот оставался жив. Узнав о перевороте, Фридрих II выразил сожаление о смерти своего любимого союзника, но в качестве надгробного слова отметил недостаток смелости и ясности ума, помешавшие Петру предвидеть события и принять меры предосторожности, уехав в армию, что, по словам Фридриха, спасло бы его трон.
Наибольший отклик переворот получил во Франции. По возвращении домой барон де Бретёйль был крайне удивлен, получив от своего министра выговор за то, что, узнав новость, он не поспешил сразу же в Петербург. Министр приказал ему вернуться на свой пост. Нельзя сказать, что переворот играл на руку Версалю, поскольку, сомневаясь в перспективах Екатерины на престоле, там ожидали других потрясений. Беспорядочная жизнь новой императрицы, ставшая предметом стольких слухов, не принесла ей уважения и заставляла думать, что она будет подвержена различным влияниям, которые наложат отпечаток на ее политику. К тому же тень Ивана VI витала над троном. Впервые в бурной истории России престол занимала иностранка, да еще и немка, не имевшая никакого отношения к роду Петра Великого, кроме таинственно скончавшегося мужа, которого она свергла с трона, в то время как существовал настоящий Романов, томящийся в застенках. Предполагаемая нестабильность России определила отстраненное отношение министра к произошедшим событиям и совет короля, данный Бретёйлю. Он должен наблюдать за Екатериной, писал король, а главное: «Вы уже знаете, что конечная цель моей политики по отношению к России – как можно дальше отодвинуть ее от Европы».
Очень скоро Бретёйль информировал Версаль, что, вопреки всем прогнозам, Екатерина намерена править безраздельно. И она очень быстро это докажет.
Глава 5. Эпоха Просвещения в России
Взошедшая на российский престол Екатерина II с самого начала должна разрешить одну серьезную трудность: как утвердить свою легитимность? Как обеспечить себе власть, которая не будет постоянно оспариваться? Ее положение втройне неудобно. Заполучив корону в результате переворота, она выглядит как узурпатор. Несмотря на свои личные недостатки и непопулярность, Петр III пользовался неоспоримой легитимностью, поскольку был внуком Петра Великого и его восхождение на трон соответствовало наконец восстановленным традиционным правилам наследования. Екатерина же не имеет никакого права занимать российский престол, не будучи ни Романовой, ни русской. К этой проблеме добавляется проблема обхода других возможных наследников, каковыми являются Иван VI и Павел, сын Петра III. О возможности посадить на трон Павла при регентстве матери в какой-то момент говорили, но Екатерина ее тут же отбросила. После того как в 1762 году ей удалось прийти к власти, ее сын постоянно ощущал себя обделенным, это отравит отношения императрицы с сыном в ходе всего ее царствования, а следствием обиды Павла на мать станет недоверие к нему императрицы. После смерти Екатерины глубина их конфликта найдет отражение в первых мерах, принятых Павлом, который уничтожит часть завещания Екатерины, касающуюся наследования, организует недостойные ее похороны, но прежде всего восстановит салический закон, устраняющий женщин из престолонаследия.
Эти проблемы заставят Екатерину постоянно утверждать свою власть. Не принадлежа к династии Романовых, она с самого начала своего царствования будет взамен декларировать принцип, который определит всю ее политику, – верность Петру Великому, пути, который он начертал во внутренней и внешней политике. Очень скоро узурпаторша, которую при всяком удобном случае изобличал король Франции, противопоставит этому унизительному статусу противоположную позицию – преемницы Петра Великого.
Чтобы лучше понять это, необходимо остановиться на личности новой императрицы. Все, кто общался с ней до 1762 года, когда она была лишь супругой наследника, единогласно отмечали ее интеллектуальные качества, ум, образованность, любознательность, но также изворотливость и амбициозность. Конечно, ее личная жизнь могла вызывать осуждение. Ее любовники сменяли один другого, и мало кто верил, что отец Павла, первенца наследной четы, действительно Петр III. Но как тут не принять во внимание все, что отличало ее от Петра? Прежде всего во внешности. Когда она впервые увидела Петра Гольштейн-Готторпского, перед ней предстал красивый подросток, хорошо сложенный и немного напоминающий деда. Но на своей свадьбе она столкнулась совсем с другим мужчиной, чье лицо изуродовала оспа. Она его не узнала и так и не смогла к нему привыкнуть. Кроме того, как могла тонкая, умная женщина, усваивающая все, что эпоха Просвещения предлагала ее любознательности, удовлетвориться недалеким (иногда его даже называли отсталым) супругом, лишенным критического мышления, интересующимся лишь детскими играми и питающим страсть только к маневрам с оловянными солдатиками и своим голштинским полком по образцу, принятому в прусской армии? Между этими двумя личностями лежала пропасть, они раздражали друг друга и очень быстро стали искать лекарство от разочарования у других партнеров. Равнодушный к похождениям Екатерины, Петр нашел утешительницу и вдобавок утешение в уверенности, что однажды он сумеет избавиться от жены, отправив ее в монастырь. До 1762 года их объединяла одна задача – из страха перед опалой скрывать свои отношения от Елизаветы, изображая перед ней прочный семейный союз. И мы знаем, что Елизавета действительно думала отстранить их от престола в пользу их сына Павла. Отсюда постоянное ощущение неуверенности, в котором жила Екатерина до 1762 года.
Екатерина Ангальт-Цербстская страстно любила читать. Владея французским, она проглатывала все, что французский гений породил в XVIII веке, когда он блистал во всем мире и когда весь мир (или, по крайней мере, вся Европа) говорил по-французски. Большая любительница французских романов, Екатерина находила в них пищу для воображения, утешение в разочаровании (катастрофическим браком), ответ на сентиментальные мечты, что оправдывает отступление от правил в ее поведении. Но прежде всего она насыщала свой ум трудами философов. Эпоха Просвещения оставила столь яркий след благодаря Монтескье, Вольтеру, энциклопедистам. Екатерина прочла все их труды, глубоко обдумала их, и именно они вдохновят ее проекты, когда она сможет провести их идеи в жизнь.
Екатерина не довольствовалась только чтением трудов обожаемых философов, она хотела видеть их, как Фридрих II, при своем дворе. Лагарп, д'Аламбер и прежде всего ее любимый Вольтер уклонились от ее приглашения. Но с 1763 года она обменяется с последним более чем сотней писем, и их переписка закончится лишь со смертью философа. Дидро, которому она предложила свою помощь в публикации его «Энциклопедии», согласился приехать в Россию в 1773–1774 годах, а Гримм, издатель «Литературной корреспонденции», приобрел для Екатерины немало предметов французского искусства, будучи ее агентом влияния в Европе и очень верным корреспондентом.
Состояние империи, которой Екатерина будет управлять с 1762 года, вызовет у нее множество размышлений, так как оно очень далеко от мира, описанного в прочитанных ею книгах. В своих мыслях Екатерина живет в эпоху Просвещения, и она без труда понимает, как воспринимается Россия извне. Как варварская страна – такой образ постоянно возникает под пером короля Франции, которая господствует над просвещенной Европой. Его суждение имеет одно оправдание: крепостное право, еще существующее в России, в то время как практически повсюду в Европе оно исчезло, – это проявление варварства. Наша читательница знает благодаря рассказам путешественников (и самому свежему из них – аббата Шаппа д'Отроша, отправленного в елизаветинскую Россию для обзора ситуации в ней Людовиком XV), что Россия представляется всей Европе страной, где часть населения является собственностью дворян и богатых землевладельцев и где в более широком смысле преобладает пассивный народ, привыкший к насилию со стороны своих правителей и утешающийся напитком, разрушительным для тела и души. Рассказ аббата Шаппа д'Отроша богато иллюстрировался картинами различных унижений, самым распространенным из которых была порка кнутом. Его книга создавала впечатление, будто речь идет о чужой экзотической стране, не принадлежащей ни к европейской цивилизации, ни даже к человеческому сообществу. Как поклонница французских философов могла с этим согласиться? Пространство русского мира, которое она видит глазами иностранцев, также не соответствует модернизационным проектам Петра Великого. Он хотел, чтобы его подданные европеизировались и походили на европейцев, русские же, описанные путешественниками, еще очень от этого далеки. Екатерина понимает: чтобы претендовать на статус наследницы Петра Великого, ей нужно продолжить его дело по модернизации России и прежде всего задуматься над запретным вопросом о крепостном праве. Да, Елизавета также имела намерение модернизировать свою страну. Ей удалось это при дворе, где она ввела французский язык и правила этикета. Но в то же время она хотела возродить Россию, столь презираемую ее отцом. В ее царствование двор время от времени переезжал в Москву, столицу, отвергнутую Петром Великим, и эта попытка примирения двух Россий, хоть и необходимая, не способствовала глубокой европеизации.
Ввиду непрочности своей легитимности Екатерина стремится укрепить ее, выказывая свою верность великому императору, но притом, так же как Елизавета, превознося все русское. В этом отношении она разойдется с Петром Великим, но подобный выбор необходим, поскольку главной причиной нелюбви к Петру III служило его стремление подражать иностранным образцам, отторжение всего, что символизировало Россию, и в первую очередь ее религии. Екатерина, блестяще владеющая русским языком, о чем свидетельствуют ее тексты, с начала своего царствования показала, что намерена защищать «русскость» своей страны. Она подтвердила свою приверженность к православной вере. В то время как Петр Великий подчинил церковь государству и осудил собственного сына за его связи с традиционной церковью, а Петр III намеревался реформировать церковь для ее сближения с протестантизмом, Екатерина торжественно провозгласила верность русской национальной церкви.
Свою миссию, оправдывая тем самым захват власти, она видела в восстановлении и защите национальных интересов России. Это будет также определяющим направлением всей ее международной политики.
Когда Екатерина восходит на трон, Россия в глазах Европы и особенно Франции, арбитра государственного протокола, – второстепенная страна по своему географическому положению и статусу. С точки зрения географии, Россия не рассматривается как европейская страна, а с точки зрения статуса в ней видят государство промежуточного типа – между великой державой, пекущейся о своих национальных интересах, и государством неопределенной природы, чья участь – объединяться с другими и способствовать их проектам. Такой точки зрения, в частности, придерживается Франция. Россию, по ее мнению, нужно удержать в ее территориальных рамках, помешать ей вести свою игру в остальной части Европы и сохранить за ней ее второстепенный статус. И государства «восточного барьера», изначально призванные ограничить могущество Габсбургов, в XVIII веке получают задачу выполнять эту роль по отношению к России. Для Екатерины, столь духовно привязанной к французской культуре и идеям Просвещения, барьер, который Франция выстраивает против России, неприемлем. Символом неравенства в отношениях с Францией стало присвоенное последней право на признание или непризнание за российскими монархами императорского титула, которое Екатерина будет потом горячо оспаривать.
Такова внешняя и внутренняя ситуация, в которой оказалась молодая императрица 28 июня 1762 года. Для тех, кто наблюдает ситуацию извне (иностранные послы, и в частности Беранже, напишут об этом), самые характерные черты периода, когда императрица делает первые шаги, – ее крайняя уязвимость как узурпаторши, захватившей власть незаконным, даже преступным образом, и всеобщие сомнения в ее способности удержаться на троне. Ее подверженность различным влияниям и сильное воздействие на нее русской политической традиции объясняются (по крайней мере, так пишут эти недоброжелательные наблюдатели) также ее неопытностью. Однако европейские дворы с интересом ожидают определения внешнеполитического курса России. Семилетняя война продолжается для всех кроме России, которая заключила мир с Пруссией. Что предпримет Екатерина или, скорее, как думают многие, те, кто дает ей советы? И главное – каким будет ее окружение, на котором сосредоточено всеобщее внимание?
Вначале со стороны кажется, что окружение императрицы мало изменилось. Его составляли те же приближенные Елизаветы и даже Петра III: канцлер Воронцов, вице-канцлер Голицын и сосланный Бестужев-Рюмин, возвращенный в столицу, но еще не прибывший в нее в первые дни царствования Екатерины. В действительности эта команда не очень уверена в себе, дезорганизованная переворотом, убежденная, что новое царствование не продлится долго, хотя никто внутри нее пока не решается об этом говорить. Канцлер блистает своим отсутствием, утверждая, что перегружен работой, а вице-канцлер на все вопросы отвечает, что ожидает указаний. Если ее чиновникам не хватало инструкций, то Екатерина с самого начала царствования выразила свою позицию в двух манифестах. Первый, опубликованный 28 июня, в день переворота, приветствовал мир, заключенный ценой ужасающих усилий, рек пролитой крови, и напоминал, что Россия «была отдана в рабство своим злейшим врагам». В заключение манифест гласил, что императрица возвращает себе свободу действий. Его восприняли как отказ от союза, заключенного Петром III. Мария-Терезия, все еще ведущая войну с Фридрихом II, надеялась, что Россия возобновит боевые действия и ослабит давление на Австрию. Но этого не произойдет. Манифест как будто осуждал сближение между Петром III и Фридрихом II, но серия рескриптов, опубликованных в последующие дни и служащих инструкциями, ясно показывала, что Екатерина одобряла мир, выведший Россию из Семилетней войны, и рассматривала его как окончательный, хотя идею о каком бы то ни было соглашении с Фридрихом II отвергала. Обеспечив себе мир, Россия освободилась и ни под каким предлогом не собиралась снова вступать в продолжающийся конфликт. Подведя этот итог, Екатерина перешла к следующему этапу, заявив, что готова помочь воюющим сторонам последовать ее примеру, то есть начать переговоры о мире. Неудивительно, что ввиду ее крайне слабой позиции в Европе это предложение не встретило никакого отклика.
Мария-Терезия тактично выразила отсутствие интереса к предложенному посредничеству и тем более к мирному конгрессу, к созыву которого стремилась Екатерина. В Версале отказали резче. Только Фридрих II проявил к предложению вежливое внимание, но, уже заключив мир с Россией, он скорее ожидал реакции тех, кто еще оставался его врагами.
Ведение нескончаемой войны становилась все более сложным для Австрии и Франции. Лишенные поддержки России, эти две державы, оставшиеся единственными противницами Фридриха II, понимали, что им не удастся выиграть войну, а столь решительные декларации Екатерины свидетельствовали, что та решила остаться вне конфликта. Однако в начале ее царствования советы, исходящие от ее окружения, не предвещали столь твердой позиции. Воронцов отстаивал характерную для царствования Елизаветы концепцию союза с Австрией, необходимого России прежде всего для слома могущества их общего врага – Османской империи. В том же духе он полагал, что хорошие отношения с Францией нужны России, дабы первая не отдала приоритет своему союзу с Османской империей, крайне пагубному для России. По возвращении Бестужева в столицу какое-то время можно было поверить, что он вновь обретет былое влияние. Екатерина выказывала ему очевидное почтение, а он открыто демонстрировал ей свою признательность. Императрица наградила Бестужева орденом Святого Андрея, назначила генерал-фельдмаршалом, хотя он не имел никакого военного опыта, и публично выразила ему в манифесте благодарность за оказанные государству услуги. Тем не менее она не вернула ему пост канцлера. Думая, что былой авторитет снова при нем, Бестужев непрестанно давал императрице советы. Как Воронцов, но с еще большей настойчивостью, он призывал порвать с политикой Петра III и вернуться к навязчивой идее Елизаветы – расширенной русско-австрийской коалиции, по мере возможности включающей Францию. Будучи готов согласиться, что мир, подписанный с Фридрихом II, имеет свои преимущества, Бестужев также сознавал, что по истечении некоторого времени все воюющие стороны придут к заключению о невозможности бесконечного продолжения Семилетней войны; впрочем, добавлял он, и после заключения мира нужно бороться с высокомерием Фридриха II, следуя в этом вопросе курсу Елизаветы на слом прусского могущества, которое она расценивала как недопустимое. Возврат к стратегии Елизаветы предполагал тех же союзников, Вену и Версаль, и борьбу с теми же противниками, Берлином и Константинополем. Все соратники Екатерины, расходясь лишь в деталях, защищали эту программу. Однако императрица их не послушала и выбрала другое направление.



