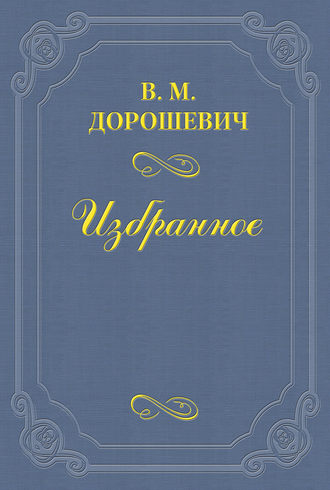
Влас Дорошевич
М.В. Лентовский
XVI
Напрасно в себе искал Алкивиад Москвы «причину перемены».
– Рыба-то осталась та же, – воду переменили!
Он-то был тот же. Кругом все изменилось.
Не та Москва была кругом.
Та, – старая, беспутная, но милая, широкая и вольнолюбивая, свободолюбивая, – Москва ушла, спряталась.
Настал пятнадцатилетний «ледяной период» истории Москвы. Период аракчеевщины.[151]
Когда сам Фамусов ушел бы из такой Москвы. Когда сам Скалозуб нашел бы, что «фельдфебеля в Вольтерах» уж слишком запахли «хожалыми».[152]
Пришли новые люди на Москву, чужие люди. Ломать стали Москву. По-своему переиначивать начали нашу старуху.
Участком запахло.
Участком там, где пахло романтизмом.
И только в глубине ушедшей в себя, съежившейся Москвы накопилось, кипело, неслышно бурлило недовольство.
Кипело, чтобы вырваться потом в бешеных демонстрациях, в банкетах и митингах, полных непримиримой ненависти, в безумии баррикад.[153]
Барственный период «старой Москвы» кончился.
Ее «правитель, добрый и веселый» кн В.А. Долгоруков, мечтавший:
– Так и умереть на своем месте! Как «хорошему москвичу» подобает.
С отпеваньем в генерал-губернаторской церкви. С похоронами через всю Москву. С литией[154] против университета. С чудовскими певчими[155]. С погребением в монастыре: в Донском, в Ново-Девичьем.
«Хозяин Москвы» однажды и вдруг узнал, что:
– Его больше нет![156]
Старик так растерялся, что заплакал, и только спросил:
– А часовых… часовых около моего дома оставят? Неужели тоже уберут… и часовых?!.
Это он-то!
Он, который говорил:
– Если бы меня посадили в острог, – первый дом в Москве был бы, разумеется, острог!
И поехал старик, вдруг потерявший всякий смысл существования, умирать куда-то в Ниццу, под горячее, но чужое солнце, под синие, но чужие небеса.
И думал, быть может, в предсмертной думе о «своей» Москве:
– Ведь год, быть может, осталось бы и так подождать. Не больше!..
У нас, в Москве, в таких случаях говорят: «Над нами не каплет». И не торопятся.
Мне рассказывал о его смерти один из его друзей. И плакал:
– Ведь там-с, батюшка, соломки, небось, перед домом даже не постелили! Соломки!
И рыдал.
– Москвичу-то! Господи! Москвичу! Без соломы перед домом помереть!
И призрак старого Николая Ильича Огарева, в старомодных санях с высокой спиной, на паре старых гнедых, уехал из Москвы.
Появился на смену Власовский.[157]
Тот, ходынский господин Власовский…
Он был раньше полицеймейстером в Варшаве.
Его кучер хотел обогнать экипаж графа Потоцкого и повелительно крикнул, – полицеймейстерский кучер в покоренном городе!
– Свороти!
Но кучер графа Потоцкого ехал как следует, по правилам, и не свернул.
– Обгони!
Кучер Власовского обогнал и хлестнул лошадей графа.
Лошади кинулись в сторону. Понесли. Едва не кончилось несчастьем.
Граф Потоцкий[158] отправился к варшавскому генерал-губернатору:
– Я считаю, что это мне нанесено оскорбление!
«Летигиум пильновать» с графом Потоцким не совсем удобно[159]. Знать из знати. Пойдут толки:
– Самого Потоцкого оскорбил!
Генерал-губернатор немедленно потребовал к себе Власовского:
– Да вы с ума сошли?!. Да вы знаете, кто такой Потоцкий?!. Что такое Потоцкий?!. Вы хотите восстановить против нас всю польскую знать?! Чтобы до Петербурга дошло?!. Чтобы нам за «бестактность» нагоняй получить?!. Немедленно поезжайте к Потоцкому с извинением! В полной парадной форме!
Власовский явился. Потоцкий принял очень любезно.
– Я приехал извиниться. Мой кучер…
– О, Боже мой! Такие пустяки! Стоит говорить! Пожалуйста, садитесь. Но Власовскому, – в особенности если приняли любезно, – надо же «свое достоинство поддержать».
– Хотя, собственно, я хотел вам сказать, граф…
– Пожалуйста. Говорите.
– Я своего кучера не виню. Ваша прислуга очень недисциплинирована.
– Вы думаете?
Граф Потоцкий позвонил.
– Да! Очень, очень недисциплинирована.
На пороге выросли два «гайдука».[160]
– Нет! Моя прислуга очень послушна и дисциплинирована. Я вам это сейчас – покажу.
И граф Потоцкий приказал:
– Выведите этого господина!
Взяли под руки и вывели. Власовский к генерал-губернатору.
Но от генерал-губернатора он услышал такие слова:
– Вас извиняться послали! А вы…
Потом он был полицеймейстером в Риге. И «русифицировал город».
Приехав в Москву, он явился в театр Парадиза и увидал на дверях партера, рядом с русскими, надпись по-немецки..
– Что это?!. Театр закрою! Зачем тут немецкие надписи?!. Снять!
Он хотел «русифицировать Москву»…
Москва стала на себя не похожа. «Прежней Москвы» не было.
Застучали топоры по развесистым старым тополям и липам «Эрмитажа». Со стоном рушились кудрявые «старожилы», видевшие так много веселья, так много блеска, так много чудес.
Роскошный «Эрмитаж» распланировывался под будничные улицы, под мещанские дома.
И не одни деревья «Эрмитажа» рушились. Рушилась вся старая Москва.
Один, больной, совсем седой, осунувшийся, с опухшими ногами, сидел у себя Лентовский.
И никто ему не помог.
И некому было уж помочь.
И он, казалось, умирал.
И он, казалось:
– Уж умер.
XVII
Как вдруг слух прошел по всей Москве:
– Слышали? Лентовский! Опять!
– Да и «Эрмитажа» нет!
– Новый создает!
– Маг!
– Волшебник!
На углу Садовой и Тверской, у Старых Триумфальных ворот, было пустопорожнее, залитое асфальтом, место, на котором только что прогорела электрическая выставка.
Хотели уж устроить на нем дровяной двор.
Как вдруг Лентовский объявил:
– Зачем дровяной двор? Тут можно устроить великолепный сад!
– На асфальте?
– А что ж!
Нужна была действительно творческая фантазия, чтоб видеть на этом голом месте великолепный сад.
Прежде чем создать сад, надо было создать под ним землю!
И закипела работа.
Ломали асфальт, выламывали под ним кирпич, рыли колоссальные ямы. Возили откуда-то земли. Привозили из окрестностей Москвы и сажали с корнями выкорчеванные столетние деревья.
И через каких-нибудь две недели асфальтовая площадь превратилась в «старый» тенистый сад, полный аромата.
Шумели развесистые вековые деревья, и огромными пестрыми благоухающими коврами раскинулись под ними грандиозные клумбы цветов.
Длинный безобразный каменный сарай превратился в изящный нарядный театр.
Вырвавшись на свободу, фантазия Лентовского не знала удержу.
– Зеркало во всю стену!.. Это для публики, заплатившей только за вход. Не стоять же ей на ногах! Для нее сзади платных мест будет великолепный бархатный пуф, кресла. Она будет слушать оперу, рассевшись как ей угодно. Слегка наклоненное зеркало будет отражать сцену. Не стоять же на цыпочках, смотреть через голову! Она будет видеть сцену в зеркале.
Репетиция освещения вызвала гром аплодисментов среди артистов.
Никогда ничего подобного не было видано ни в одном русском театре.
Сцена представляла пейзаж.
И Лентовский разыграл на нем всю симфонию смены света и теней, дал всю поэзию суток.
Лунная ночь, предрассветные сумерки, вся гамма рождающегося, разгорающегося, торжествующего рассвета, знойный день и все золото, весь пурпур, умирающий свет и блеск заката и безлунная, только дрожащим сиянием звезд и трепетом далеких зарниц освещенная ночь.
Перед нами снова был «маг и волшебник».
На его клич снова слетелись и окружили его художники. Талантливая молодежь, – среди них выдвинувшийся тогда г. Бауэр.
Все старые помощники Лентовского были на своих местах, вокруг «мага и волшебника». Все воскресло духом.
Готовилось к генеральному сражению. Было уверено в победе. Это был:
– Прежний Лентовский.
Только уже не с шапкой черных кудрей, не в фантастической куртке, не в английском шлеме.
Красавец-старик.
С серебряными кудрями.
В белой шелковой поддевке, грязной от черной работы.
Он был везде, создавал все.
И все было полно им. Все носило отпечаток его вкуса. Все было оригинально, красиво, изящно, – каждая постройка в выросшем как по волшебству саду.
И все это в несколько недель.
– По-американски! – говорили в Москве.
И Лентовский назвал свой сад:
– «Ч_и_к_а_г_о».
В Москве рассказывали про «чудеса, которые наделал Лентовский». Все с нетерпением ждали открытия. А открытие откладывалось со дня на день. Со дня на день…
И вот однажды Лентовский вошел в номер своего приятеля и упал, – прямо упал, – в кресло.
Не сказал даже «здравствуйте». Закрыл только глаза рукой.
– Кончено! Все кончено!
– Что случилось?
– Меня добили!
Таким его не приходилось видеть никогда. Он сидел убитый, опустив свою могучую голову, с бледным, искаженным лицом, не похожий на себя.
– Господин Власовский… добился… добил… У него вопрос самолюбия… «Показать себя»… Показать на старом москвиче… «Не прежнее, мол, вам время-с».
Это было лозунгом, девизом всего «ледяного периода» истории Москвы.
– Показать ей!
Показать на старых москвичах.
– Это вам не прежнее время.
Пред «новичком» Власовским встала старая «московская легенда» Лентовский.
– Я вам покажу легенду!
Скрутить Лентовского, чтобы «показать Москве»:
– Вот что такое для нас эти ваши «московские легенды». Тьфу!
Лентовский был первым, пробным камнем.
– Я все терпел! – не говорил, а стонал Лентовский. – заносчивость, нарочное вызывание на дерзости… Я дал бы урок! Я показал бы, что в Москве так не принято разговаривать! Что мы, москвичи, к этому не привыкли! И он вызывал меня на это!.. Но за мной дело, за моей спиной сотни людей, доверившихся мне… Я все делал, чтобы сдержаться… Я все терпел… «Ты ждешь от меня скандала, чтобы прикончить со мной? Не дождешься!» Я молчал, – он день ото дня становился наглее. Терпел… Всевозможные придирки. Это перестрой, – перестраивал. Это переделай, – переделывал… Еще комиссия осмотрит, – ждал. Сам приеду посмотреть, – ожидал. Такой залог внеси, такой, такой, – по всем швам трещал, доставал, вносил. Наконец объявил: «Теперь я все сделал, все внес, что мог. Больше ни сделать, ни внести не могу». Этого ему только и нужно было. «Сад открыть разрешить не могу! Потрудитесь внести еще залог в пять тысяч!» – «Какой залог? Я внес все, что вы требовали!» – «Мало. Мне нужна гарантия». – «Но если мне верят те, кто служит! Спросите их: верят ли они Лентовскому». – «Извините! Это их дело! Мне это ничего не говорит! Что такое Лентовский? Я знаю, что есть несостоятельный должник Лентовский, который не имеет права вести никакого дела. И я не понимаю, почему вы меня утруждаете своими разговорами. Директор сада г. Леонидов. Я его не знаю. Пусть внесет мне еще 5 тысяч залога. Иначе открыть не разрешаю». – «Но ведь у меня целая оперная труппа, хор, оркестр, служащие. Ведь им платить надо! Ведь это тысячи каждый день! Ведь каждый день отсрочки губит, губит дело! Ведь вы режете меня и всех». – «Повторяю, я вас не знаю и не желаю знать!..» Хотел было я… Чтобы сказали, что Лентовский дикий человек, что Лентовский скандалист, что Лентовский сам виноват?!







