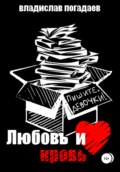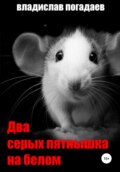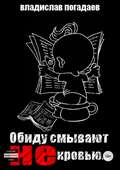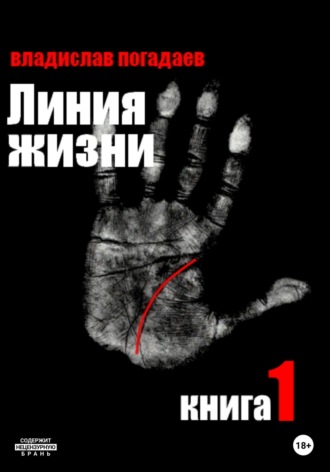
Владислав Михайлович Погадаев
Линия жизни. Книга первая
Коробок нашёлся сразу, а вот в поисках спички пришлось поползать, но и её отыскал в этом мусоре! Свезло! Насовал в топку дров, запалил бересту – на душе стало веселей. Голландская печь нагревается быстро – уже минут через тридцать рубашка на теле начала подсыхать.
Не знаю, сколько времени я там провёл, но согрелся. В помещении тоже потеплело. Выходить на улицу не хотелось категорически, и только мысль о том, что творится с моими друзьями в лагере, выгнала меня наружу.
Нужно было возвращаться на стан, но как? Вариант: идти прежним путём вдоль насыпи узкоколейки – я отмёл сразу. Насыпь то появлялась, то исчезала, и только Фёдор знал, куда двигаться, чтобы не сбиться с верного направления. Я же боялся, что, потеряв ориентир, снова уйду не туда. И вдруг вспомнил про болото и товарный состав, который шёл прямо через него. Вот это болото мне и нужно найти: на другой его стороне – дорога, где мы делали перекур!
Я снова рванул по железке: от станции – налево, и вот оно – болото! Спустился по насыпи вниз и, пройдя краем мочажины, нашёл старую дорогу-лежнёвку, уходящую прямиком в воду. Начинался рассвет, и болото предстало во всей своей красе: абсолютно белое от инея. Сделал шаг – под ногами затрещало: это был тонкий ледок, за ночь образовавшийся на поверхности воды…
Почти по колено в жиже брёл я по лежнёвке из брёвен через болото, а потом бежал, чтобы не замёрзнуть, по лесовозной дороге, вдоль насыпи узкоколейки и той тропинке, по которой мы вчера прошли несколько сот метров… В кедах хлюпала вода.
Уже из последних сил подходя к месту стоянки, услышал голоса и закричал. Шёл и кричал…
Тем временем мои товарищи уже отчаялись увидеть меня живым: ведь ушёл в тайгу в рубашке и кедах, и заблудиться не мог, так как никогда не блудил, а, значит, случилось что-то по-настоящему серьёзное.
Заручившись свидетельствами другой группы туристов о том, что в тайгу я ушёл один и добровольно, и обменявшись с ними телефонами, мои спутники сворачивали экспедицию с тем, чтобы найти ближайшую администрацию и заявить о произошедшем. Навели их на эту светлую мысль наши соседи по лагерю. Узнав, что я – главный инженер, а все остальные – рядовые работники депо, соседи научили моих компаньонов, как нужно действовать, чтобы снять с себя подозрение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.
Но мне было не до этих душещипательных подробностей. Я упал в неубранную ещё палатку. Федя притащил стакан водки и горячего варева. Проглотив в одно мгновение и то, и другое, я тут же уснул.
Проспал не больше двух часов. Когда проснулся, лагерь был снова разбит, а вся команда собиралась отчалить на сбор ягод. Как Федя меня ни отговаривал, я натянул сапоги и, еле волоча ноги, отправился со всеми, обещая, что далеко от стоянки не уйду. Переживали мои спутники не напрасно, так как, зная меня, понимали, что ходить кучей я, несмотря на вчерашнее приключение, не буду.
Так оно и вышло: спустя некоторое время я свернул в сторону и недалеко от лагеря набрёл на небольшую плантацию совершенно нетронутой ягоды. Собирая бруснику, краем уха всё же ловил голоса своих спутников.
Вечером на стане выяснилось, что собрал я больше всех, а на следующий день моя пятиведёрная пайва уже была полна доверху. Остальные члены команды тоже со своей задачей справились.
Так как билеты были куплены заранее, мы дружно отправились на станцию.
Отдохнув несколько дней дома, я, уже с другой компанией, снова направился за брусникой. Теперь – в Нягань, где у нас было хорошо разведанное место километрах в пятнадцати-двадцати от посёлка.
Добраться до него не составило труда, так как в тот район вела бетонка, по которой ходили лесовозы и другая техника. Да и в Нягани было, к кому обратиться за помощью.
Меня, Сашу Третьякова и его жену Милю доставили чётко до места. Договорившись о том, когда поедем обратно, пошли организовывать стан.
Пока Саша с Милей разбивали лагерь и готовили ужин, я, с их согласия, отправился на разведку: искать место, где на следующее утро можно будет плодотворно поработать. Бродил часа два, а когда стало темнеть, снова понял, что не знаю, куда идти! Спасибо Саше с Милей: они начали кричать. На эти крики я и вышел к лагерю.
На следующее утро мы уже вместе нашли приличный ягодник, за два дня набили пайвы под завязку и в оговорённое время выехали на станцию.
Больше подобных неприятностей со мной не случалось, и в лесу я ориентировался по-прежнему отлично.
Не жди от природы милости, сам садочек сади, сам и вырасти
Надо сказать, что ещё году примерно в девяностом, весной, мне, по поручению директора, пришлось взвалить на себя нелёгкую ношу: обеспечить работников депо садовыми участками.
В головах наших вышестоящих руководителей как-то неожиданно родилась и созрела вполне здравая, хоть и несколько запоздалая мысль: если мы не можем накормить народ, пусть народ накормит себя сам. Лучше поздно, чем никогда, и в актовом зале Администрации Орджоникидзевского района собралась куча людей. Педагоги, медработники, работники транспорта и РОВД, короче, бюджетники. Все хотели успеть воспользоваться плодами этого внезапного прозрения.
Действительно, в России так мало земли, что на всех не хватает. Видимо, именно поэтому под садовые участки традиционно отводили всякие неудобья: леса, болота и линии электропередач. Всё же любили высокопоставленные строители коммунизма наблюдать, как народец справляется с трудностями. Сами они − я точно знаю − в такие авантюры не лезли.
Вот и теперь нам представилась возможность поделить хаотично заросший после пожара участок старой вырубки, который был в довольно приличном состоянии: проехать можно даже на легковушке, если, конечно, таковая имеется в наличии. Другой возможности добраться до места в тридцати километрах от города не было, ну, разве что пешком с рюкзаком за плечами, поскольку от тракта до выделенного участка нужно было километров пять пробираться по старой лесовозной дороге. А на десерт − фига с маслом: поблизости ни воды, ни электричества.
Бальзамом на душу было то, что место оказалось очень красивым: пологий склон горы, поросший подлеском и молодыми сосёнками. Спасибо, что не болото!
Не стану подробно описывать подвиги работников депо, скажу только, что за первое лето мы успели немало. Поставили забор из того горелого леса, что остался после пожара, распустив его на доски: на грузовом троллейбусе отвозили брёвна в депо, распиливали циркулярной пилой и везли обратно. Расчистили участок от бурелома, а его было − мама, не горюй! Впоследствии мы ещё несколько лет использовали эти запасы на дрова и на ремонт дороги, по которой теперь не спеша можно было проехать даже на легковом автомобиле. Купили и смонтировали дизельную электростанцию. Но самое главное: нашли воду и пробурили скважину! И всё это − без какой бы то ни было помощи − только за счёт собственных сил и средств. Представляю, какие возможности имелись у врачей и учителей…
Сад разбили на участки, которых хватило всем желающим. Теперь по выходным депо выделяло безлошадным членам товарищества, а таких было большинство, автобус для поездки в сад.
По природе я − торопыга: такой характер, почему мне зачастую и поручали некоторые вопросы, которые требовали немедленного решения. Если я загорался полученным заданием – всё: искры летели из-под каблуков! Именно поэтому следующей весной наш собственный садовый участок мы разработали полностью: выкорчевали все пни, засадили плодовыми деревьями и ягодниками, поставили дом с большой верандой и русскую баню. Как я доставал материал на строительство − отдельная песня. Опять пришлось задействовать старые связи и знакомства по принципу: баш на баш, дашь на дашь.
Лихие девяностые. Вперёд – к капитализму или назад в будущее
14 января 1991 года правительство страны возглавил Валентин Павлов, занимавший ранее пост министра финансов, а девять дней спустя он начал денежную реформу. Государственные розничные цены с апреля девяносто первого выросли примерно в три раза, произошло резкое падение уровня жизни населения. Чтобы платить пенсии и зарплаты бюджетникам, государство вновь запустило денежный станок. В обращение были введены новые банкноты номиналами в двести, пятьсот и тысячу рублей.
В это непростое время произошли события, определившие всю мою дальнейшую трудовую деятельность.
Прежде всего, это – организация в депо частного предприятия, занимающегося строительно-ремонтными работами.
Случилось так, что мой студенческий друг Слава Берсенёв, который среди нас считался самым успешным, поскольку, ещё учась на четвёртом курсе, занимал должность заместителя директора Свердловского ликёро-водочного завода, должности этой своей лишился. А виной всему – его непомерная гордыня и амбициозность. Во времена тотального дефицита и развернувшейся антиалкогольной кампании должность заместителя директора «Ликёроводки» была сопоставима с должностью заместителя директора «Уралмаша».
Не поделив с собственным руководством квоты на право распределения продукции завода, Слава не только потерял хлебное место, но, в качестве бонуса, получил волчий билет, и отныне любая приличная вакансия в городе была для него закрыта.
После продолжительного блуждания по предприятиям города Славе, как Максиму Горькому, впору было начать писать «Мои университеты».
Одним из таких университетов и стала для моего друга организация ремонтно-строительного кооператива. Некоторое время тому назад Слава создал и возглавил аналогичное предприятие при «Телефонстрое», но что-то дела у него там пошли неважно, и пришлось мне взять новоиспечённого кооператора под своё крыло.
Разумеется, я принял в этом деле самое непосредственное участие. Более того, для почина передал ему и пресловутую автостоянку. К тому же в это время уже вышло соответствующее постановление, запрещающее руководителям бюджетных предприятий совмещать руководство предприятиями коммерческими.
Объективная необходимость в создании при депо ремонтно-строительного кооператива имелась, так как требовалось существенно увеличить объёмы выполняемых работ. Тем более, наше депо в то время шефствовало над несколькими детскими садами и яслями, руководство которых на условиях взаимовыгодного сотрудничества решало вопросы устройства детей деповчан в садик. Несмотря на то, что несколько лет назад нами был введён в строй собственный детский комбинат на шесть групп на улице Коммунистической, он всё же не мог решить эту проблему полностью. Да и депо нужно было содержать в приличном виде.
Слава взялся за работу довольно резво. А тут как раз подоспела очередь выполнять ремонтные работы в детских яслях на Донбасской, куда больше года назад пришла новая заведующая – Ирина Петровна.
Прежняя – Ракова Валентина Ивановна, сменившая на этом посту Плеханову Людмилу Ивановну, с которой у нас за долгие годы сложились тёплые, дружественные отношения, проработала в новой должности недолго: коллектив был сложный, и справиться с ним ей оказалось не под силу.
После того, как Валентина Ивановна обнаружила подсунутую под дверь её кабинета бумажку с угрожающей надписью «Уходи, а то хуже будет», медлить не стала: в бумажку был завёрнут белый порошок, и заведующая всерьёз испугалась, как бы недоброжелатели не устроили вредительства, подкинув отравы в кухонный котёл.
Уходя, Валентина Ивановна взяла с меня слово, что помогать новой заведующей, которую она и видела-то минут двадцать от силы, я не стану. Более того, у своего ближайшего окружения заручилась обещанием, что они уволятся следом за ней. Понятно, что увольняться никто не стал. Хотя нет, как назло, смотали удочки как раз представители оппозиции. «Вот жопы!» – возмущалась обманутая в лучших ожиданиях Валентина Ивановна.
Я своего слова тоже не сдержал и, конечно, помогал подшефным всем, чем мог.
На приёмку объекта явился с двумя огромными букетами гладиолусов: один – для заведующей, другой – для завхоза Любовь Ивановны, у которой в тот день как раз был день рождения. Называлось это: зайти в гости.
Ирина Петровна, молодая и красивая, оказалась ещё и весьма неглупой. Она неплохо разбиралась в ремонтных работах и дотошно требовала от подрядчика обеспечить качественное выполнение технического задания. А потому весьма тактично, с шутками и прибаутками натыкала меня носом во все косяки и огрехи, допущенные Славиной бригадой. Грамотно чередуя кнут и пряник, Ирина Петровна выставила на стол в качестве презента пол-литра чистого медицинского спирта.
Схватить бутылку и уйти мне не позволило воспитание. К тому же и повод формальный, вроде, имелся: день рождения завхоза! Считай, второго человека в детском саду.
– За это надо выпить!
– А мы не возражаем!
– А чем будем запивать?
– А чем запивают в детском саду? Компотом!
Хлебнув чистого спирта и запив его компотом из сухофруктов, я растрогался и, положа руку на сердце, заверил ответственную Ирину Петровну, что все недостатки, допущенные на объекте, будут устранены незамедлительно. Она же, в свою очередь, до того прониклась ко мне признательностью и уважением, что спустя весьма непродолжительное время эти чувства переросли в нечто более сильное и, я бы сказал, интимное.
От окружающих наши отношения мы скрывали под грифом служебной надобности и производственной необходимости.
Всё это, конечно, шутка. А если серьёзно, на тот момент мой брак был уже простой формальностью, и, как это часто бывает, держался по одной причине: я не оставлял семью потому, что у меня были несовершеннолетние дети. Что такое стать сиротой при живых родителях, сам знал не понаслышке, и уготовить подобную участь своим детям не хотел и не мог, хоть и давно понял, что мы с Надей не подходим друг другу по многим критериям. Но взялся за гуж – не говори, что не дюж. Родил – воспитывай. И раз мы связали свои жизни, должны были нести эту ношу как минимум до совершеннолетия детей.
12 июня 1991 года Ельцин выиграл всенародные выборы на должность Президента РСФСР и катализировал процесс, названный впоследствии «парад суверенитетов».
19 августа 1991 года группа политиков из окружения Горбачёва объявила о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению – ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму президента Горбачёва введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву. ГКЧП поддержали две союзные республики – Азербайджанская и Белорусская ССР, остальные акты ГКЧП отвергли.
Уже в первый день событий Ельцин, выступая с танка перед Белым домом, назвал произошедшее государственным переворотом, затем обнародовал ряд указов о непризнании действий ГКЧП.
Вернувшийся в сентябре с Западной Украины Игорь, который ездил в санаторий, рассказывал, как всего за одну ночь в центре города-курорта Трускавец – «жемчужины Украинских Карпат» – снесли памятник Ленину. Вечером он ещё стоял, а утром – как не бывало.
В сентябре девяносто первого мы с близкими по руководящему цеху товарищами зарегистрировали ТОО «Фобос», целью которого было занятие коммерцией, хотя у меня язык не поворачивается называть эту деятельность коммерцией. Скорей уж, спекуляцией – именно так это и трактовалось по советским законам, но пришли другие времена, и ты, ничего не производя, а торгуя разной дребеденью, считался коммерсантом – представителем новой формации.
Учредителями данного общества были: Сычёв Геннадий Александрович – директор депо; Слава Пахомов – мой друг и подельник по забору, а в то время – заместитель начальника «Автотехснаба», которым руководил Прудников Юрий Александрович; Толик Ижболдин – главный инженер одной строительной организации, его друг – главный инженер одной энергетической фирмы на Уралмаше и я. Как видим, публика вполне достойная.
Задачей моих партнёров было снабжать меня различными материалами, механизмами и прочим, а моя – организовать сбыт всего этого изобилия, благо в те тяжёлые времена всё было дефицитом и пользовалось спросом. Впоследствии как-то так сложилось, что и доставать и реализовывать пришлось мне одному, за редким исключением.
Но этого всего было недостаточно. Пытаясь расширить диапазон коммерческой деятельности и нарастить объёмы, вспомнил о Прибалтике. После моей командировки туда ещё в бытность главным инженером депо я оставил о себе неплохое впечатление.
Старые знакомые откликнулись практически мгновенно и приехали на новом «РАФ»е, полностью забитом женским бельём Рижского производства – в то время одним из лучших в бывшем Союзе.
«РАФ» был продан ими практически сразу и с приличным наваром, а вот остальной товар – оставлен мне на реализацию. Буквально под честное слово! Определили только сумму, которую необходимо вернуть.
Найти магазин для реализации этого богатства не составило труда, и всё было продано в одно мгновенье! Многие, наверное, помнят эти магазины начала девяностых – прообразы современных супемаркетов, на полках которых рядом с продуктами мирно, как в сельпо, уживались трусы и ботинки, книги и стройматериалы.
Позже – после развала Союза и закрытия границ – из Прибалтики пришло ещё два контейнера: с обоями. На тот момент у меня уже были небольшие оборотные средства, поэтому за товар я рассчитался быстро. Гораздо сложнее оказалось оформить растаможку. Дело это было новое и совершенно незнакомое. К счастью, оказалось, что одна из подруг Ирины с недавнего времени работает в таможне. Ничем особым помочь она, конечно, не смогла, но подсказала, в каком направлении нужно двигаться и куда обратиться. Всеми дальнейшими вопросами по декларированию и таможенному оформлению товара занималась уже Ирина.
С реализацией тоже не всё пошло гладко, но об этом – после.
Жизнь на два фронта влекла за собой дополнительные расходы, а, следовательно, требовала дополнительных средств, ведь ущемлять интересы семьи я себе позволить не мог, да и рост заработной платы не успевал за обесценивающимся рублём. Неожиданно помог случай.
В то неспокойное время многие пытались как-то подработать. Мои братья Толя и Валерик, которые уже обзавелись семьями и воспитывали по двое детей, устроились ночными сторожами в офис «Союза ветеранов Афганистана», который тогда располагался в самом центре города на улице Добролюбова. Организация была создана для защиты прав воинов-интернационалистов и поддержки семей погибших военнослужащих.
В 1991 году СО РСВА развернулось: на площади Советской Армии афганцы заложили мемориал «Чёрный тюльпан», основали газету «Ветеран Афганистана», а при педагогическом институте, где на факультете физического воспитания и военной подготовки училась целая группа афганцев, открыли музей «Шурави».
Так как Валера и Толик зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны, «афганцы» по протекции Толика согласились принять на работу их двоюродного брата Олега из Полевского – сына Васи и Оли, у которых жили мои братья после смерти матери.
Олег к тому времени окончил военное училище, но прослужил недолго, попав под сокращение. В Советском Союзе вовсю шла гонка разоружений. Вслед за выводом войск из Афганистана, 12 сентября 1990 года канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачёв подписали договор, по которому все советские войска, дислоцированные на территории Германии, должны были покинуть её с конца девяностого по девяносто четвёртый год. Военные стране были не нужны! А Олег, несмотря на то, что был ещё довольно молод, уже успел жениться и обзавестись ребёночком. И семью надо было кормить!
Деньги за работу охранника, естественно, платили небольшие, но ни в какое другое место кузен устроиться не мог или не хотел, а потому начал подворовывать то, что ему поручалось охранять. Как в «Фитиле» – киножурнале советских времён: кто что охраняет, тот то и имеет.
В перечне товаров, экспортом которых было разрешено заниматься «афганцам», была медь. Вот на ней-то и остановил свой томный взгляд наш застенчивый воришка.
В одну из ночей, когда он дежурил на пару с Толиком, а тот отлучился поспать – такое практиковалось – Олежа загнал на территорию СВА машину и загрузил в неё всю лишнюю, как он посчитал, медь.
Утром, обнаружив пропажу, «афганцы» взяли Толика с дневной работы и учинили следствие в сочетании с акцией устрашения. Излишне говорить, что Олежа из города исчез, найти его не представлялось возможным, и только спустя несколько лет родственник объявился на северах.
Толику дали срок – надо сказать, довольно приличный – для того чтобы он либо доставил виновника на расправу, либо погасил ущерб. Поскольку гасить было нечем, в один прекрасный день братишка и возник на пороге моего кабинета. Упав в кресло и утирая слёзы, Толик просил помочь ему в поисках вороватого кузена: «Владик, они со мной такое сделают… Я просто не выдержу…» – закончил он.
По предположению Толика виновник его бед умотал к жене: она проживала у родителей в Казахстане – в городе Рудный. Ехать предполагалось на машине, купленной мною у шурина. Благодаря своей тёще, которая работала в горкоме партии Чайковского, он сумел достать новый автомобиль, а мне продал свою шестёрку. Самое интересное, что этот металлолом пришлось собирать буквально заново: поменять все крылья – они сгнили до дыр – и провести капитальный ремонт двигателя, который жрал масло чуть меньше, чем бензин.
После вынужденной продажи своей первой машины я так и не сумел купить ничего взамен, и только этот случай помог мне хоть как-то решить вопрос. Надо ли говорить, что взял я эту шестёрку по цене нового автомобиля: даже изъезженные машины в то время дешевле не продавались, а новые – с рук – стоили два с лишним номинала.
Кстати, слово «номинал» вошло в широкое употребление именно во времена перестройки. Продавая или покупая какую-либо вещь, обычно называли её «государственную» цену – номинал – а количество этих самых номиналов обозначало реальную стоимость: два номинала, три номинала. «Продаю по номиналу» значило: за что купил, за то и продаю.
Но я снова отвлёкся, а, между тем, Толика надо было срочно выручать. В ближайшие выходные мы с братом ринулись в Казахстан – на поиски проклятого расхитителя «афганской» собственности.
Половина дороги была мне знакома: как-то с Федей и братом Валерой мы ездили по просторам Казахстана в поисках дикой вишни – в урожайные годы в лесных колках её бывает огромное количество.
В Рудный прибыли поздно вечером, но кузена дома не оказалось. Жена, по всей видимости, тоже не была расположена выдать место схрона. Оно и понятно: что ждало бы любимого супруга, появись он на базе у «афганцев»? А страдания, в общем-то, постороннего Толи её не трогали. Кстати, в дальнейшем любимый супруг достойно отблагодарил жену за стойкость: бросил вместе с ребёнком. Но это так, к слову.
Утром, не солоно хлебавши, тронулись в обратный путь. Где-то в середине дня, проезжая через Кустанай, решили заскочить на базар – посмотреть, чем богат этот солнечный край. Удивлению не было предела: мясо и изделия из него были представлены в изобилии, от которого мы уже давно успели отвыкнуть, а цены – в два с лишним раза ниже, чем в Екатеринбурге – так с недавнего времени стал называться Свердловск.
Отправляясь в дальнюю дорогу, я выгреб дома всю наличность, поэтому располагал весьма приличной суммой. Мы с азартом принялись торговаться.
Не знаю, чем объяснить, но когда я начинаю заниматься каким-либо новым делом, очень быстро схожусь с людьми, от которых решение этого дела и зависит: на ловца и зверь бежит. Так произошло и в этот раз: моментально разговорились и познакомились с молодыми ребятами-оптовиками. Они проявили большой интерес к Екатеринбургу и некоторым товарам, которые можно было приобрести в нашем городе. В общем, в процессе общения обнаружилось, что мы можем быть очень полезны друг другу. Я сразу прикинул, как очень выгодно закрутить натуральный обмен, нужно только найти канал сбыта – на рынок ведь не попрёшься.
Загрузив мясом полный багажник, обменялись телефонами и покатили на родину. Дома забили морозилки под завязку, а всё, что осталось, я отвёз Ирине и предложил продать по той цене, которую она сочтёт целесообразной. Каково же было моё удивление, когда при следующей встрече Ирина передала мне сумму, значительно превышающую ту, что мы затратили, и кучу заказов на будущее. Вот так это нечаянное путешествие послужило началом регулярных рейсов.