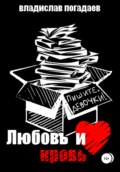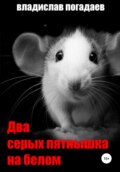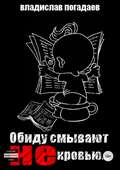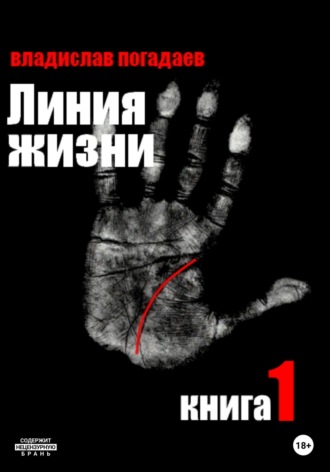
Владислав Михайлович Погадаев
Линия жизни. Книга первая
Перспективы карьерного роста. 1985 год
Впервые мы встретились у входа в депо, куда Сергеев приехал, чтобы познакомиться и с предприятием, и с его начальником. Чувствовалось, что обо мне он знает довольно много, причём, как положительного, так и отрицательного. Тем не менее, при первой же встрече Сергеев предложил мне убрать из наименования должности приставку ИО – исполняющий обязанности – и занять место начальника на постоянной основе, однако, все неприятности прошедшего периода доказывали, что делать этого не следует, и я отказался.
Вообще, работа директора, не смотря на то, что приходилось совмещать её с нагрузкой главного инженера, мне нравилась – я справлялся. Но то, что произошло перед отпуском, могло отбить охоту у человека и менее чувствительного. Стоило мне представить, как дилетанты, направляемые райкомами, горкомами, исполкомами, начнут рьяно разбирать бесконечные кляузы на меня, глубоко в душе возникало раздражение и отторжение этой заманчивой перспективы.
Кстати, отработав в депо продолжительное время на основных руководящих должностях, могу вполне объективно оценить, что самая сложная из них – должность начальника ремонтных цехов.
Спустя несколько дней ко мне – я так и продолжал занимать кабинет главного инженера – влетает секретарь. Глаза словно блюдца: Сергеев срочно требует к телефону! Дело в том, что все в ТТУ знали, что я, хоть и исполняю обязанности начальника, место его не занял, и все планёрки и совещания провожу в своём небольшом кабинете, поэтому звонили мне прямо туда. Сергеев же набрал номер директорского кабинета, который обычно был заперт на ключ.
Я прошёл туда, снял трубку:
– Добрый день, Геннадий Степанович!
– Почему Вы не на месте?
– Я на месте, только Вы, Геннадий Степанович, почему-то звоните по этому телефону, а не ко мне в кабинет…
– Владислав Михайлович, я Вам приказываю занять этот кабинет!
Возникла неловкая пауза. Потом я ответил:
– Геннадий Степанович, я временно кабинетов не занимаю…
– Я приказываю Вам занять его постоянно!
– Геннадий Степанович, но я ведь уже сказал, что начальником депо не буду.
После такой вот перепалки мы перешли к вопросу, ради которого он и звонил, но, положив трубку, я почувствовал, что у нас, похоже, начали складываться довольно напряжённые отношения. Это предположение подтвердилось в дальнейшем: я не принял ни одного его предложения о повышении, и причины к тому были весьма веские.
Кража. Август 1985 года
В августе, ближе к осени, прилетел Юра: решил использовать свой продолжительный отпуск на всю катушку. Первое, что он наметил – слетать в Киргизию, где на границе с Китаем служил его сын Валера.
Так как отпуск предстоял длинный, а денег было много, большую их часть брат оставил у меня с тем, чтобы забрать, вернувшись через неделю.
Юру я проводил, а деньги положил в сейф, который находился в кабинете начальника депо и перешёл в моё распоряжение вместе с должностью. В этом же сейфе хранились деньги с халтур, которыми я продолжал заниматься. С течением времени сумма росла, становясь своеобразным фондом или кассой взаимопомощи.
Ключи от сейфа хранились в одном из ящиков директорского стола, и если кому-либо из ближайшего окружения нужна была некая сумма, взаймы я её выдавал следующим образом: «Где ключ от сейфа лежит, знаешь? Ну, вот пойди и возьми, сколько тебе надо. Потом вернёшь…»
Эта система работала до определённого момента, когда однажды придя на работу, я обнаружил, что дверь кабинета взломана, замок сейфа открыт, а сам сейф, естественно, пуст! Ключи вор зачем-то унёс с собой. К той сумме, что хранилась у меня, и той, что оставил на хранение Юрка, накануне вечером добавились отпускные Володи Ситникова. Так что навар у вора был приличный.
Приехала милиция. Сняли отпечатки, начали проводить допросы. Через меня вызвали к дознавателю Юру, который вскоре вернулся из Киргизии и, увидав мою кислую морду, тут же спросил, что случилось. Скрывать было нечего, да и незачем. Брат сразу покатил в райотдел.
Вечером собрались за столом. Как водится, с бутылкой. Сейчас в это трудно поверить, но тогда я впервые попробовал дыню, которая называется «торпеда» – привёз Юрка из Киргизии. У нас на Урале в то время продавали только маленькие жёлтые «Колхозницы» и астраханские «Лады» – сорта урожайные, но не слишком сладкие.
Юрка всё старался успокоить меня, говорил, что поедет в Чайковский к матери и перехватит у ней сумму, необходимую для продолжения отпуска. Рассказал, о чём говорили со следователем. И только приняв на грудь приличное количество спиртного, признался, что на прощание следователь задал ему вопрос: «А не мог ли ЭТО организовать Ваш брат?»
После этих слов я как-то сразу протрезвел и полетел к холодильнику за второй бутылкой.
На следующий день, проводив Юру в Чайковский, попросил своего водителя Виталика Бессонова найти покупателя на мою машину. Это было несложно, если учесть, что даже старые «Жигули» продавались дороже номинала. Машина ушла влёт, тем более, её техническое состояние было на высоте, а за ценой я, учитывая обстоятельства, не гнался и сразу согласился на ту, что предложили.
Когда Юрка вернулся из отпуска, я отдал ему в конверте всю сумму, которую он оставлял. Узнав, откуда деньги, брат очень расстроился, так как понимал, что теперь я долго не смогу снова купить машину, но я объяснил, что после вопроса следователя просто не мог поступить иначе.
Это жизненное кредо – не быть никому должным – присуще мне всю жизнь. Даже если я каким-то образом оказывался в долгу, всегда старался рассчитаться по своим обязательствам как можно быстрее.
Ротация и рокировка 1986 год
На протяжении ещё нескольких месяцев Геннадий Степанович предлагал мне стать начальником депо, но, поняв, видимо, что результата не добьётся, в марте восемьдесят шестого привёз к нам для знакомства Сердюкова Виктора Васильевича, ранее трудившегося в должности руководителя службы пути Свердловской железной дороги. Виктор был старше меня, с большим опытом работы. Он очень быстро понял службу, да к тому же, как выяснилось позже, считал эту работу временной необходимостью: ждал более достойного места на железной дороге, куда и собирался вернуться.
Познакомившись с командой и уяснив, что и с ремонтом, и с эксплуатацией мы неплохо справляемся без его участия, Виктор Васильевич избрал довольно мудрую тактику: просмотрев рано утром сводки с суточными результатами работы депо и проведя короткую планёрку, он оставлял нас с Володей Ситниковым «обсудить некоторые детали», а заканчивал это обсуждение так:
– Ребята, я вам, по-моему, не нужен – вы и сами без меня хорошо справляетесь. Поэтому, если у вас ко мне ничего нет, то я, с вашего разрешения, исчезаю, – и, пожав друг другу руки, мы с улыбками расходились. Обычно это происходило где-то перед обеденным перерывом.
Через некоторое время он исчез совсем, а мы опять остались без начальника: проработав в депо несколько месяцев, Сердюков возглавил завод по ремонту железнодорожной спецтехники, что было ему, конечно, гораздо ближе, чем служба в ТТУ.
В этот раз Сергеев, даже не делая попытки «женить» меня на депо – осознал, наконец, что это бесполезно – назначил начальником Килина Петра Родионовича, который в семьдесят пятом вместе с нами открывал депо в должности зама по эксплуатации. Впоследствии он был переведён в Управление начальником службы движения, где и пребывал до того, как снова появиться у нас.
Этот период работы депо оказался весьма спокойным. Мы все прекрасно знали друг друга. На должность старшего мастера, а затем и начальника ремонтных цехов по моей рекомендации был назначен Офицеров Фёдор Алексеевич, который пришёл в депо ещё в бытность мою начальником ремонтных цехов и работал электрослесарем по ремонту подвижного состава. Он без отрыва от производства окончил институт, да и вообще как специалист был на высоте: без труда находил, а затем быстро и качественно устранял неисправности в схемах троллейбуса. С моей лёгкой руки Офицеров и по сей день работает в Орджоникидзевском депо замом по ремонту.
Кроме того, Пётр Родионович был человеком, способным на компромисс, и обстановка в коллективе была очень доброжелательной. С Килиным невозможно было повздорить по какому-либо незначительному поводу, наши с Вовиком полномочия он не ограничивал, а даже, наоборот, делегировал часть своих, лишь бы мы их достойно применяли. Показатели работы Орджоникидзевского депо были на высоте.
Не так обстояли дела в Октябрьском: оно стало хиреть. Долгое время начальником депо был Виктор Колесниченко, который так же, как и я, начинал работать там сначала электрослесарем по ремонту, затем – после окончания института – главным инженером, а уж потом – начальником. Опыт работы у Виктора был большой, но все эти плюсы сводились на нет одним существенным минусом: любил грешник выпить. Это его и сгубило: последние годы работы в депо он пил всё сильнее, поэтому перед Сергеевым встал вопрос о смене начальника Октябрьского депо, тем более что Геннадий Степанович неважную работу предприятия напрямую связывал с неважным поведением его руководителя.
Однажды, уже поздно вечером, у нас в квартире раздался телефонный звонок. На другом конце провода, как ни странно, был Сергеев. Начав с общих фраз, он быстро перешёл к главному вопросу:
– Скажите, Владислав Михайлович, – он всегда и ко всем обращался на «Вы» и по имени отчеству, – а как Вы отнесётесь к тому, что в депо вернётся Сычёв?
– Да ради Бога, Геннадий Степанович, пусть возвращается. А куда Вы Килина денете?
– В Октябрьское.
Оказалось, что Сергеев предварительно переговорил с Сычёвым, который изъявил согласие вернуться. Но только обратно в Орджоникидзевское депо – в Октябрьское он не хотел ни за какие деньги, так как хорошо знал сложившуюся там обстановку. Ну, а у Петрухи выбора, к сожалению, не было, хоть уходить от нас он и не хотел.
Для чего Сергеев позвонил мне? Не знаю. Могу только предположить: для того, чтоб не обидеть. За сравнительно небольшой промежуток времени Геннадий Степанович хорошо изучил меня, мой вспыльчивый независимый характер; был в курсе того, как я уже однажды уходил из депо и как вернулся обратно, и что из моего ухода вышло. Видимо, долгая партийная работа сделала из него неплохого дипломата. Эта его черта потом проявится ещё не раз, а оценится только с годами и в сравнении с поступками уже других руководителей ТТУ.
Не успел я положить трубку, как телефон затрезвонил снова. Звонил Сычёв, который тоже хотел знать моё отношение к тому, что он вернётся обратно в депо: Геннадий Александрович знал, что это кресло мне предлагали не раз. Услышав, что я всё уже знаю и одобряю, он, по-моему, уснул спокойно.
В общем, рокировка удалась. Колесниченко было предложено перейти в отдел снабжения Западного трамвайного депо, Килин принял Октябрьское, а к нам вернулся Сычёв.
Анонимка-2. Весна 1987 года
Уже в последние дни работы Килина в депо проходил обязательный ежемесячный инструктаж водителей. Накануне в приёмную начальника позвонили из Ленинского райкома партии и предупредили, что явка должна быть максимально высокой, а также потребовали обеспечить персонально моё присутствие.
Когда Петр Родионович информировал меня о полученной телефонограмме, вид у него был настолько недоумевающий, что мне его стало жаль больше, чем себя. Я чувствовал, что здесь зарыта какая-то очередная подлянка. Для чего я понадобился партии? За прошедшие годы мне этого общения хватило с лихвой!
Перед началом инструктажа я – не помню уж зачем – зашёл к Килину. Вдруг открывается дверь, в кабинет рысью влетают два представителя райкома и, тыча в лицо Петру Родионовичу мандаты, в один голос спрашивают:
– А Погадаев будет?
– Да вот же он, – Килин нерешительно протянул руку, указав на меня, как будто в помещении был ещё кто-то кроме нас.
Оказалось, что гонцы прибыли по мою душу: в рамках стартовавшей в январе восемьдесят седьмого года очередной кампании по «демократизации советского общества» и политике «гласности» очередную кляузу было решено не проверять, а зачитать на собрании коллектива!!!
Я выматерился и вышел из кабинета, сопровождаемый растерянным взглядом Килина, для которого – это было заметно – всё происходящее явилось полной неожиданностью.
Видели бы вы, с каким воодушевлением и широко распахнутыми, пылающими праведным гневом глазами глашатаи перестройки, получив слово от председательствующего, который отрекомендовал их как представителей райкома партии, начали с выражением читать эту галиматью! И ведь не мальчики уже – оба старше меня – должны, казалось бы, понимать, что прежде чем публично обвинять кого бы то ни было, нужно разобраться в ситуации, но поди ж тут утерпи! Материалец-то какой смачный, фактик жареный: главный! инженер! снабдил! свою! любовницу! квартирой! Ну, а потом снова про забор, про гараж и ещё кое-что по мелочи.
В зале стояла мёртвая тишина. Казалось: муха пролетит – услышат. Никогда ни на одном собрании депо ни один оратор не пользовался таким успехом!
Но что началось после того, как завершилось чтение!
Водители рвались на сцену, не спрашивая разрешения у председателя. С мест раздавались гневные выкрики вперемешку с матом!
Бедные представители КПСС! Они всего-то и хотели – открыть народу глаза, а тут, того и гляди, свои выцарапают!
– Забыли, что было, когда он от нас ушёл? Машин исправных не хватало! Мы сидели в резерве! Зарплаты не было! Снова хотим того же? Это какие же водители подписали жалобу? Не могли водители написать эту гадость! Покажите их! Сколько можно его проверять? ОБХСС проверял, КРУ проверяло, комиссия обкома проверяла. Что нашли? Ни-че-го! Проверяете одну ложь! – это кричали водители.
Такой реакции я, признаться, не ожидал, ведь многие из них получали от меня не только премии, но и взыскания. Особенно непримирим я был, когда дело касалось алкоголя.
После собрания основные действующие лица – водителей больше звать не стали – собрались в кабинете начальника депо. Один из представителей партии с протянутой рукой и виноватой улыбкой обратился ко мне:
– Ну, вот смотрите, как всё хорошо прошло! А Вы боялись!
И тут, как говорят в боксе, у меня упала планка:
– Это я боялся?!… Это вы сейчас боитесь!… Кто дал вам право читать про меня все эти гадости?!… Кто дал вам право оскорблять меня перед коллективом, с которым я работаю столько лет?!… Я подам в суд на вас и вашу партию, которая направила вас сюда с такими полномочиями!…
Вот на этой высокой ноте мы и расстались, но спустя несколько дней я перегорел и успокоился, а впоследствии, вспоминая их испуганные рожи и своё собственное выступление, приправленное матом, уже только хохотал. Сегодня я даже сочувствую этим двум орлам, которые, исполненные служебного рвения, даже не подозревали, в какой переплёт попадут. Они-то считали себя носителями новой идеи, проводниками наступающей гласности, хотели устроить публичную порку – принародно отодрать зарвавшегося управленца, а высекли в итоге сами себя – как та унтер-офицерская вдова.
В суд я подавать, конечно, не стал, хотя, наверное, можно было бы попробовать – авторитет партии на тот момент уже резко катился вниз – но выписку протокола общего собрания сохранил.
На это собрание представители райкома пригласили журналиста, чтобы впоследствии растиражировать «урок гласности» во всех местных изданиях, но не свезло – не вписался этот случай в общую концепцию кампании! Не будешь же, в самом деле, вещать на всю область, как обделался, не проверив изложенные в анонимке «факты», да и в отчёт это мероприятие, наверное, сложно внести как очередной успех перестройки и гласности. Такой вот облом получился.
И только в газете «Электропуть» от 18 марта 1987 года – рабочие называли её «Электромуть» – вышла статья по следам этого собрания.
И хоть мата в статье не было – журналисты сгладили острые углы – но суть дела изложена относительно верно. Почему относительно? А потому, что свой провал герольды перестройки представили как победу гласности, указав буквально следующее: «Собрание вынесло решение: осудить анонимных авторов, предать гласности решение собрания, и впредь рассматривать все жалобы на собраниях трудовых коллективов. Такое обсуждение – это хороший отпор клеветникам, любителям сведения счётов, это хороший урок гласности, высвечивания всех неясных сторон». На самом же деле решение собрания было сформулировано гораздо короче и предельно ясно: анонимки не рассматривать!
Кстати сказать, статья вышла без подписи. Не захотел, видать, автор позориться!
Перестроечные процессы. Все на выборы
По России мчится тройка:
Мишка! Райка! Перестройка!
Перестройка – главный фактор,
Запороли мы реактор.
Затопили пароход,
Пропустили самолёт,
Наркоманов развели,
СПИД в Россию завезли.
Лёня Брежнев, открой глазки,
Нет ни пива, ни колбаски,
Нету водки и вина,
Радиация одна.
В шесть часов поёт петух в деревне Пугачёво.
Магазин закрыт до трёх, ключ у Горбачева.
Водку мы теперь не пьём
И конфет не кушаем,
Зубы чистим кирпичом,
Перестройку слушаем.
Перестройка – мать родная,
Хозрасчёт – отец родной,
Не нужна родня такая,
Лучше буду сиротой.
Водка стоит двести тридцать.
Триста сорок колбаса,
Х… стоит у Горбачева,
У рабочих – волоса.
Эти перестроечные стишки, распечатанные самиздатовским способом, мне вручили в Москве на Арбате. Они вполне отражают ситуацию, царившую в стране в конце восьмидесятых. Народ, с энтузиазмом встретивший приход к власти Горбачёва и выразивший доверие новому руководству, скоро остыл.
Анекдот той поры:
«Результаты недавно проводившегося опроса населения по поводу отношения к правительству:
– послать на… – 30%
– послать к… – 30%
– послать в… – 30%
– не определились – 10%»
Конечно, авария на Чернобыльской атомной станции в апреле восемьдесят шестого и гибель пассажирского теплохода «Адмирал Нахимов» в августе того же года мало кого из горожан коснулись напрямую. Немецкий лётчик, совершивший на своём спортивном самолётике посадку на Красной Площади в День пограничника в мае восемьдесят седьмого, скорее позабавил, нежели напугал граждан сверхдержавы.
Но вот бездумная антиалкогольная кампания, рост цен и введение талонов на продукты задевали всех и каждого. Из магазинов исчезли все мало-мальски востребованные товары: продукты, средства гигиены, канцтовары. Об одежде, обуви, мебели и стройматериалах даже упоминать не стоит – этого не было и раньше.
Как в анекдоте:
– Что такое перестройка?
– Правда, ещё раз правда и НИЧЕГО кроме правды.
Зато появились талоны – на всё: на колбасу, на масло, на сахар, на мыло. Именно в то время хозяйка, обращаясь к гостям, шутила: «Руки мыли с мылом, значит, чай будете пить без сахара».
Вернувшись в депо, Сычёв досконально ознакомился со всеми показателями – этого у него не отнимешь – и на первой же планёрке честно признался, что не ожидал таких результатов. Его прогноз относительно премий и зарплат хоть и сбылся, но лишь отчасти: без премии мы сидели не два, а лишь один квартал: с приходом Сергеева финансирование было налажено. А главное – нам удалось сохранить коллектив, что для Сычёва тоже было приятной неожиданностью: он полагал, что более зрелые мастера и руководители подразделений при таком раскладе перейдут на соответственно более высокооплачиваемую работу, благо, предприятий в Орджоникидзевском районе хватало. Но ничего этого не произошло, и мне было приятно, когда Геннадий Александрович отметил, что моя роль в этих вопросах была решающей, и он это хорошо понимает.
Пётр Родионович принял дела в Октябрьском депо, и вот тут ему досталось по полной. Помощники, к сожалению, оказались не на высоте. Выправить ситуацию он так и не смог, хотя очень старался, и в конце восемьдесят девятого года подал заявление на увольнение.
А страну захлестнула волна политических баталий: митинги, теледебаты, дискуссионные клубы, программы «Взгляд», «До и после полуночи», межнациональные конфликты, сепаратистские настроения на окраинах империи.
В декабре восемьдесят восьмого были узаконены альтернативные выборы, и трансляции со второго съезда народных депутатов СССР в декабре восемьдесят девятого смотрели, как захватывающий сериал.
Подходили сроки переизбрания секретаря парткома ТТУ. Эта должность считалась весьма почётной и могла служить трамплином для дальнейшего карьерного рывка. Так, например, Михалев Валентин Павлович – бывший начальник Октябрьского троллейбусного депо – с места секретаря парткома прямиком ушёл руководить предприятием «Спортобувь», отказавшись от предложенной должности председателя Горисполкома.
На тот период, о котором я рассказываю, секретарём парткома ТТУ был Брагинский Вадим Нехимеевич. Мне, хоть и был я беспартийным, как главному инженеру депо было положено присутствовать на совещании партийно-хозяйственного актива, где в числе прочих вопросов предполагалось выдвинуть кандидатуру нового партсекретаря для дальнейшего утверждения на общем партийном собрании.
После отчёта Брагинского об итогах работы за прошедший период стал вопрос о выдвижении кандидата. Вадим сразу предупредил, чтоб его кандидатуру не рассматривали, но Сергеева словно заклинило: никого другого на этом месте он видеть не хотел. Разгорелись жаркие дебаты: одни Брагинского поддерживали, другие – нет, но самым усердным участником дискуссии был, конечно, сам Сергеев. В итоге Брагинский, не выдержав накала страстей, взял слово:
– Сказал – не буду, значит – не буду. Это вам, Геннадий Степанович, что рыбу коптить, что ТТУ руководить, а я хочу работать по специальности!
В зале установилась мёртвая тишина, многие опустили головы, пряча ехидные усмешки. Такого казуса не ожидал никто.
Пришлось Сергееву срочно менять своё мнение, и в результате кандидатом на пост секретаря парткома ТТУ стал Бирюков, бывший когда-то секретарём комсомольской организации ТТУ.
В это же время возникла и приняла конкретные очертания бредовая идея о выборе руководителей предприятий и организаций. То, что это – очередная дурь, доказало время, и дискутировать по этому поводу бесполезно. На эту тему был такой анекдот: перестройка повредила ногу; сначала думали – перелом, а потом оказалось – очередной вывих. Но, тем не менее, ТТУ не осталось в стороне и, отдавая дань демократическим преобразованиям в обществе, внесло свою лепту во всеобщий бардак.
Как-то раз к нам прибыла делегация Октябрьского троллейбусного депо. Возглавлял её Саша Черняев. С Сашей мы были давно знакомы: когда-то вместе работали. Он – слесарем, я – электрослесарем. Работник Саша был хороший, но страдал традиционным русским недомоганием. Тем не менее, благодаря неплохим организаторским способностям вырос до начальника участка.
Поймали они меня в цехе. Поздоровались, и Саша с места в карьер начал:
– Владислав, пошли к нам директором – нас мужики к тебе отправили. Мы всё обговорили: скоро выборы, и мы все проголосуем за тебя. Понимаешь, надоело всё: порядка нет, зарплаты нет, народ разбегается. Да ты и сам знаешь: показатели работы каждый месяц печатают в газете.
Я засмеялся:
– Саша, ты с ума сошёл. Я ведь тебя же первого и выгоню. Ты ж знаешь, как я к этому отношусь, – и сунул палец себе под нижнюю челюсть, намекая на его пристрастие к выпивке.
– Да и чёрт с этим, – Саша не унимался, – обрыдло всё! Ну, хочешь, я встану на колени, – и бухнулся прямо на пол цеха. Это было, конечно, кино, в том числе и для наших работников.
Я поднял Сашу и сказал:
– Да мне Сергеев недавно предлагал – я отказался. А вот на выборы к вам приеду обязательно – посмотрю на этот цирк. Очень интересно, кого вы выберете, – список кандидатов я уже знал.
Как водится на Руси, из троих выбрали наихудшего – того, который наобещал с три короба. Причём, опыта работы кандидат не имел и лишь недавно окончил Сибирский электротехнический институт.
Это действительно был цирк:
Кандидат: – Зарплату всем поднимем!
Главный бухгалтер: – А где деньги возьмёте?
Кандидат: – Так, Вы у нас кто? Главный бухгалтер, – широкий взмах руки, указательный палец направлен на главного бухгалтера, – вот вы и найдёте!!!
Аплодисменты в зале…
Мы с Сычёвым только посмеивались, слушая речи этого прожектёра. Но смех этот был сквозь слёзы. Порулил господин Яклюшин недолго: где взять три обещанных короба – не знал, справиться с таким сложным коллективом, да ещё имеющим свои собственные старые традиции – не смог. Да и вдобавок ко всему традиционное русское недомогание – пьянство – не обошло стороной и его: с коллективом оказалось проще слиться, влиться и напиться, чем управлять им.
Пришлось нам пережить ещё одни выборы, главная роль в которых предназначалась мне.
В Облкомхоз уходил Пугачёв Валентин Андреевич. Не ужился он с Сергеевым. Да оно и понятно. Человек, отработавший начальником Северного трамвайного депо, заместителем начальника ТТУ по общим вопросам, главным инженером ТТУ – после ухода Васильева Александра Андреевича, а затем исполняющим обязанности начальника ТТУ – после перевода Диденко Василия Александровича в транспортный отдел Горисполкома. Причём обязанности начальника он совмещал с обязанностями главного инженера, и делал это вполне успешно! И вдруг начальником ТТУ назначают управленца, никогда в этой отрасли не работавшего, не знающего специфики такого сложного предприятия!
Одно слово: номенклатура.
В период назначения Сергеева – в восемьдесят шестом году – КПСС ещё не сдала своих позиций и продолжала оставаться «руководящей силой советского общества». Отсюда и принцип решения кадровых вопросов. Ведь кадры – по известному выражению товарища Сталина – решают всё.
Ну, вот и нарешали.
Расставался я с Пугачёвым с большим сожалением: работать с ним было хоть и сложно, но интересно. Вот, к примеру, такой эпизод.
По проекту Орджоникидзевское троллейбусное депо, как предприятие первой категории, должно быть запитано с двух различных подстанций. Поскольку на момент пуска депо вторая подстанция ещё не вступила в строй, было решено запитаться от одной, но с разных ячеек. Правилами эксплуатации электроустановок такое разрешалось, но только временно.
Это, конечно, было весьма рискованно, тем более, оба кабеля располагались в одной траншее, да и сама подстанция находилась в двух километрах и проходила под несколькими дорогами, в том числе и под проспектом Космонавтов. Если же учесть, что кабель был с алюминиевыми жилами, да ещё с кучей соединительных муфт, станет понятно, что система электропитания изначально считалась крайне ненадёжной, что и подтвердилось впоследствии: кабели стали часто выходить из строя. Это, безусловно, сказывалось на эксплуатации депо и организации ремонта троллейбусов.
Но произошло чудо, и в четырёхстах метрах от депо сдали, наконец, требуемую подстанцию – как раз у Северного кладбища. Оперативно нашёлся кабель, да ещё с медными жилами – мечта любого энергохозяйства! Вот только средств на его прокладку в ТТУ на тот момент не оказалось.
Как-то после планёрки Пугачёв оставил меня в кабинете и предложил взять выполнение данного объёма работ на себя, сразу предупредив, что особенно помочь мне в этом вопросе не сможет:
– Надеюсь, справишься сам. Ведь построил забор, не имея ни техники, ни бетона, значит, и здесь сможешь, – вот в таком разрезе состоялся этот разговор.
Трассу прокладки, её размеры и все остальные согласования мы осуществляли своими силами, благо главным механиком депо в это время был Ильиных Анатолий Дмитриевич, человек с большим опытом работы, особенно в области строительства. Впоследствии он стал начальником технического отдела. Именно Анатолий Дмитрич произвёл разметку трассы и получил все согласования.
В процессе выяснилось, что кабель нужно будет укладывать параллельно магистральной трубе газопровода, а затем и пересекать её. Вот тут требовалась особая осторожность: газопровод нельзя было повредить ни в коем случае. Иначе – авария с непредсказуемыми последствиями!
В течение лета траншея была готова, на дне мелким отсевом отсыпали «постель» для кабеля, оставалось совсем немного: положить кабель чётко на этот отсев. Вот только как? Ни техники, ни специальных приспособлений не было.
Но выход нашёлся.
Во-первых, рассчитали, какое количество людей потребуется, во-вторых, проинструктировли ремонтные бригады депо, в-третьих, второго августа – в день моего рождения – все ремонтные работы в депо закончили на час раньше и собрались у катушки с кабелем, которая уже была установлена на пирамиду-вертушку.
Действовали так: первый человек берёт конец кабеля и разматывает его, двигаясь вдоль края траншеи. Через пять-шесть метров кабель подхватывает второй рабочий и направляется вслед за первым, потом третий, четвёртый, пятый и так далее: словно бусы, собранные на нитку. Таким способом мы на руках аккуратно уложили кабель в подготовленную траншею в течение буквально тридцати минут.
Когда работа была практически закончена, появились Пугачёв и его помощник Ермошин Владимир Фёдорович: люди приехали поздравить меня с днём рождения, но их встретило практически безлюдное депо, и только диспетчера объяснили, куда подевался весь рабочий класс во главе с главным инженером. Там они меня и нашли: в грязной рубашке, вместе с рабочими, тягающими кабель. Поздравили с днём рождения, поблагодарили за работу, помотали в удивлении головами и отбыли восвояси. Правда, затем, вдогонку уже, пришёл приказ о соответствующем поощрении.
Теперь энергобезопасность депо стала максимальной.
Был ещё ряд технических вопросов, которые мы с Пугачёвым благополучно разрешили. Валентин Андреич умел поставить задачу таким образом, чтобы всемерно задействовать в её решении моё самолюбие.
Так, с приходом в парк новых троллейбусов ЗИУ-9 мы начали осваивать смонтированные на них штангоуловители, которые были технически несовершенны, но крайне необходимы, так как защищали контактную сеть от повреждений при сходе штанг, а, следовательно, сокращали убытки от данного вида аварий. И мы с нашими рационализаторами заставили эти элементы защиты работать весьма успешно.
Впоследствии Пугачёв, обсуждая вопросы эксплуатации контактной сети и применения штангоуловителей с работниками других депо, на все их возражения отвечал: «А у Погадаева они работают!»
Ушёл Валентин Андреич как-то незаметно: вчера ещё работал в ТТУ, а уже сегодня он – один из руководителей Облкомхоза. На какой-то период его заменил Володя Ермошин, что было вполне логично и закономерно, ведь на тот момент именно Володя являлся помощником Пугачёва, но, поскольку ситуация требовала урегулирования на основе провозглашённых принципов гласности, демократизации и всеобщей выборности, Геннадий Степанович принял решение провести выборы нового главного инженера ТТУ.