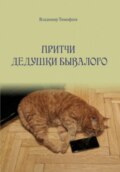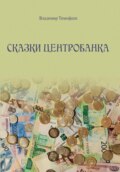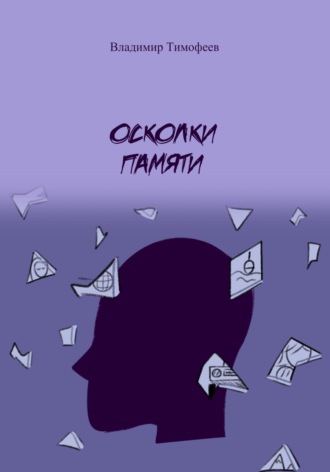
Владимир Тимофеев
Осколки памяти
Особенности ревности во время войны
Все с чего-то начинается. Любовь – с первого взгляда, дуэль – с оскорбления, пьянка – с первой рюмки. Войны вообще начинаются с чего угодно, хотя в основе их деньги. Ревность тоже возникает порой из ничего, но иногда, в отличие от войн, поводом для ревности служат полновесные неоспоримые доказательства.
В Афганистане мы пробыли довольно долго. Гораздо дольше, чем нам бы хотелось. Но вот возник слух, что к Новому году нас отправят домой. Весть, на первый взгляд, благостная, а на деле вредная. Когда мы только-только прибыли в ДРА, то первые полторы недели были в состоянии острой бдительности. Всюду чудились снайперы, мины, засады, удары из-за угла. С одной стороны, это хорошо, разгильдяйства никто не допускает. Но с другой стороны, такое нервное напряжение порой перерастает в страх. А уж от страха человек может натворить что угодно, разумеется, с плачевными или даже трагическими последствиями.
Потом острота восприятия притупляется, все успокаиваются, порой чересчур, даже опасная работа становится рутинной. И все превращаются в опытных бойцов. Ты по-прежнему осознаешь, что можешь оказаться на прицеле у снайпера, можешь нарваться на мину, получить удар в спину во время встречи с нужным человеком. Но все это просчитываешь заранее, понимая, что надо оказаться умнее, дальновиднее, предусмотрительнее, быстрее и точнее противника. Если не получится – значит судьба.
Однако, как только ты узнаешь, что командировка заканчивается, сразу же появляется желание дожить до отъезда, а вот желание проводить острые мероприятия пропадает начисто.
Мечтам встретить Новый 1981 год дома не суждено было сбыться. Как обычно, не все выполнили запланированные мероприятия. А невыполнение плана – это вещь несравнимо более серьезная и чреватая, чем банда душманов. В зоне нашей оперативной ответственности (Пактия, Пактика и Газни) все было в позиционном «равновесии». А вот у соседей с запада были серьезные сложности с провинцией Урузган.
Вероятно, при составлении плана зон ответственности штабисты невнимательно работали с картами. Западные наши соседи на большую часть территории Урузгана могли заходить без боестолкновений. Вот только делать там было нечего. Подавляющая часть хозарийцев, а именно они населяют эту провинцию, проживает в восточной части, дороги к которой идут из Газни. Пробраться с запада через безлюдные хребты пяти-шеститысячных вечно покрытых льдом и снегом гор могли только группы опытных горных егерей. Но какие задачи они могли решить?
У нас же с возглавлявшим оборону хозарийцев Саид Джеграном (Джегран в переводе – майор) были почти добрососедские отношения. Он не нападал на «шурави», если только мы без внятной причины не выдвигались вглубь Урузгана. Мы, в свою очередь, давали понять, что сочувствуем хозарийцам, которые называли себя потомками Александра Македонского. Действительно у многих были синие глаза, а волосы светлыми. И юноши и девушки отличались красотой. Но в Афганистане хозарийцы считались самым отсталым народом. И отношение к ним было соответствующее. Тем более, что они были шиитами, в отличие от суннитского большинства афганцев. Доступ к образованию для большинства из них был закрыт. Саид Джегран был одним из очень немногих, кто смог его получить. А самое интересное – он учился в Москве в Академии Генштаба на одном курсе вместе с заместителем командира полка, дислоцировавшегося в Лаговате в окрестностях Газни.
Тем не менее, нам была поставлена задача выяснить, действительно ли к Саиду Джеграну прибыли несколько американцев и отряд иранцев.
После недели продвижения по горам (каждый из трех батальонов полка двигался по выделенному ущелью), нескольких боевых стычек и столкновений, мы установили, что иранцы действительно находятся в составе соединений Саида Джеграна. Да они и не особенно скрывались. Одетые в фиолетового цвета комбинезоны иранцы были хорошо заметны среди снега и льда. А вот об американцах ни местные жители, ни пленные ничего не слышали.
И тогда к нам на помощь прибыл вертолет из Кабула, а на нем секретный агент родом из тех самых мест, куда нам удалось добраться. Позднее хозарийцы сказали нам, что мы были первыми европейцами, побывавшими в центре этого горного массива. Даже имени приданого разведчика нам не сообщили. Был он небольшого роста, худощав, глаза у него были, как и полагалось, ярко синими. Про таких говорят: «Ладно скроен и крепко сшит». Очень интересная у него была походка. Он как будто не переходил, а переливался подобно ртути с одного места на другое. Мы, не мудрствуя лукаво, стали называть его Джума (Пятница), он не возражал.
Джума объяснил, что сам не располагает информацией об американцах. Нам следует доставить его на вертолете в родной кишлак, и вот там-то он у своих родственников все выяснит. Предложение было рискованное. В сердце Урузгана даже перевалы были на высоте от трех тысяч метров. Зимой в горах воздух сильно разрежен, вертолет в связи с этим мог элементарно рухнуть. Еще большую опасность представляли бешеные ветры, которые меняли направление после преодоления перевала, и легко разбивали вертушки о скалы. Но Джума на карте уверенно показал маршрут, по которому мы сможем, как он нас заверил, безопасно добраться до его сородичей. Они, кстати или некстати, не были ни хозарийцами, ни пуштунами, и всегда состояли в оппозиции и к тем и другим и при шахе, и при Амине, и при Бабраке Кармале. Пять селений веками успешно сдерживали попытки покорить их. На народность они «не тянули» по численности, а племенем называть их было бы обидно.
Джума сообщил, что три года не имел возможности побывать дома и очень скучает по жене и трем своим детям. Поэтому, когда мы приземлились у указанного кишлака, он выскочил из вертолета и бегом помчался к одному из домов. Навстречу ему вышла женщина и трое детишек, по виду от 5 до 8 лет. Еще один годовалый малыш был у нее на руках.
Мы оставались у машины и подшучивали, стараясь угадать, сколько времени у «секретного агента» уйдет на выполнение задания, а сколько останется на долгожданное общение с женой.
Джума затратил на триста метров не более минуты. Учитывая высоту и вес его экипировки это, наверное, был рекорд. Он присел и, разом обхватив малышей руками, прижал к себе. Жена не подвинулась ему на встречу ни на метр. Джума наконец отпустил ребятишек, подошел к ней, забрал малыша и передал старшему сыну. Затем резко ударил жену в живот. Она согнулась. Теперь уже ногой он нанес ей удар в голову. Она упала, а Джума продолжил ее пинать.
Один из нас хотел было двинуться на помощь женщине, но самый старший (позывной «Батя», ему было 42 года), наш советский таджик резко его остановил:
– Нельзя!
– Но он же убьет ее! Он же зверь!
– Разуй глаза и включи голову. Его не было три года, а малышу год с небольшим. Жена его опозорила, и он вправе ее убить.
– Так мы что? Будем стоять и смотреть, как убивают женщину, мать четверых детей?
Джума поволок тело к дому и скрылся за дувалом, взмахом руки приказав детям идти за ним.
– Жену в этих местах купить трудно и очень дорого. – Задумчиво продолжил Батя, – Да он и сам понимает, что тоже виноват. Нельзя оставлять женщину беззащитной. Поэтому не убьет. Но может объявить, что выгнал ее, как жену, и теперь она станет просто домработницей по уходу за его детьми.
Через два с половиной часа Джума в сопровождении ребятишек вышел из ворот своего дома. Сзади него шла жена с малышом на руках. Не доходя до вертолета метров тридцать, он обнял каждого из детей. Потом подошел к жене и поцеловал малыша, а затем и, неслыханное для мусульман дело, свою жену. При посторонних мужчинах! Потом достал пистолет и две запасные обоймы и отдал старшему сыну.
Мы облегченно вздохнули. Однако прямо на Джуму не смотрели, делая вид, что интересуемся окрестностями. Про задание никто не спрашивал, но он сам заявил, что американцев у Саида Джеграна не было. От них приходили посланцы, предлагали помощь вооружением и продовольствием за активизацию боевых действий, чтобы перекрыть автодорогу Кабул – Кандагар. Саид Джегран ответил, что сначала хочет «пощупать» эту помощь. А после ухода гостей сказал, что американцы ни за что не рискнут направить самолеты в Урузган, а другого способа доставить вооружение нет.
Примерно через час мы высадились у своего БТР, а Джума улетел в сторону Газни.
Батя, предупреждая попытки пошутить, сказал:
– Джума, прилюдно поцеловав жену, показал, что он ее любит, а малыш его ребенок. Это было сделано не для нас, а для жителей кишлака. Вот так-то. Это вам не Отелло! Это настоящий мужчина и настоящий боец! А семья теперь будет под охраной старшего сына.
Надежда, Наденька, Надюша
Жила-поживала деревня. Долго жила, хорошо. Потом жителей стало много. Решили они построить большой завод. Благо места хватало, молодежи умной-образованной, да не ленивой избыток образовался. Естественно, раз завод, то деревню надо было в город преобразовывать или, на первое время в рабочий поселок. Строительство началось великое: и завода, и дорог, и жилья многоэтажного.
На беду, в это же время начальство на самом верху тоже переустройство великое всей страны организовало. А раз на «самом верху» что-то затеяли, то внизу все разом и остановилось. Да оно и понятно, что если «вверху» кутерьма, то для корней-основы ни времени, ни ума не нашлось.
И стала наша уже не деревня, но еще и не город, испытывать беды и горести незаслуженные. Молодежь все чаще уезжала счастье свое искать, кто в большие города, а кто и в заморские страны. Народ деревенско-городской заскучал, затосковал, помрачнел.
Да и то правда, в соседние деревни мелюзгу-детвору хотя бы на каникулы привозили. В огороде безгэмэошными овощами побаловаться, в саду – яблочко, не опрысканное всякими пестицидами-гербицидами, пожевать, на речке в воде без хлора и другой всякой химии побултыхаться-позагорать. В общем, пожить хоть пару месяцев по-человечески. Как деды-прадеды жили.
А еще не город, но уже не деревню и этого разнообразия лишили. Плохо быть ни то ни се. Вот и жители свои характеры поменяли, да не в лучшую сторону. Ругаться стали чаще, порою и горевали. Даже с соседями свары устраивали. Улыбающееся лицо на улице встретить – событие. Но обсуждаемое – чего зубы скалить, когда пора их на полку складывать?
Но был, был и в этом тускнеющем царстве луч света – женщина молодая с замечательным именем Надежда, Наденька, Надюша. Поговорит с людьми, у них морщины разглаживаются, в глазах доброта появляется, разговоры без единой злобинки продолжаются. Все ее привечали, в гости зазывали, сами спешили радостью какой-либо поделиться.
Все-то все, да не все и не всегда. Нет рая на земле, да и люди – не ангелы.
Заметили, как-то раз, что Наденька потухшая совсем от тетки Лапиной вышла, с головой опущенной и глазами мокрыми. А у Лапиных муж-хозяин спину сорвал, лежит и почти не шевелится. Дети от них давно уехали, ей за ним ухаживать сил нету.
Прояснилось все, когда тетка Лапина рассказала, как дело было. Поговорила она с Надеждой, пожаловалась на беспросветность. А та ее утешила. Мол, радоваться надо, что мужик садиться способен на кровати, сам кушает, нос себе вытереть может.
Удивились такому рассказу соседки, не знали верить или не верить. Не похоже было это на Наденьку.
Прошло месяца четыре. Мужик-хозяин совсем поплохел. Садиться и есть сам перестал, только поговорить мог. Жизнь у тетки Лапиной вообще никакой стала. Встретила она Надежду на улице и вопрос задает, что и теперь скажешь, радоваться надо. А та ей отвечает, что тяжело, понятное дело, но и об этом времени вспомнишь хорошим словом.
К весне преставился мужик. Тетка Лапина как-то вдруг в бабку превратилась. Сидит до поздней ночи на лавочке возле крыльца, раскачивается потихонечку и все со своим муженьком разговаривает. Поговорит, поговорит и зарыдает: «Что ж ты молчишь? Что ж меня бросил одну? Разве плохо я за тобой ходила-ухаживала, кормила-поила?»
Соседки по-разному вспоминали Наденькины утешения. Но сошлись в одном – все она предвидела, все знала, но не все рассказала.
А потом другой случай произошел. Тетка Шпагина без мужа сына вырастила. Красавца, умного, вежливого. Пришла тому в армию повестка. Он к матери. Жениться, мол, срочно надо. До того, как служить заберут. А она свои виды имела, как ему жизнь выстраивать, да на ком и когда жениться. Не захотела на невесту даже посмотреть, благо она из соседнего села была. Добилась, чтобы свадьба не состоялась.
Поделилась она своими заботами с Надюшей. А та ей говорит: «Зря сыну счастье порушили. Придет время сами за его невестой ходить будете». Шпагина Надежду прогнала, а соседкам заявила, что за такую наглость с ней и здороваться не будет.
Отслужил ее сын полтора года. Домой написал, чтобы к свадьбе все было готово, как только приедет. Но не доехал, в аварии погиб. Шпагина тоже из вполне еще цветущей женщины превратилась в бабульку. Добрые люди рассказали ей, что невеста сынова мальчонку родила. А она в ответ: «С кем нагуляла, тем родителям пусть хвастается. А мой сын тут ни при чем».
Так и жила. Кремень, а не баба. Но вспоминала время от времени Надюшкино предсказание. В конце концов решила потихоньку, никому ничего не говоря, посмотреть на пацаненка. Так, для спокойствия.
Приехала по адресу, думает, пройду мимо, как будто по делам, гляну одним глазком, и все. А как мальчугана увидела, словно столбняк с ней случился. Сынок ее, сыночек, сынулька, каким его с двух лет запомнила, перед ней остановился и рассматривает. Никаких ДНК ей не понадобилась, чтобы внука признать. Не успела она и слова вымолвить, выбежала из дому женщина молодая подхватила ребенка и скрылась за дверями. Хорошо невеста бывшая долго зла не держала. Хотя и замуж вышла, но сына к бабке родной иногда привозила и ей приезжать не препятствовала.
Шпагина многим о Надином предсказании рассказала. Народ и другие случаи вспомнил, многие такое поведали, чего и быть не могло. Но молва пошла, что Надежда – эта Ванга в новом обличье. Со всех сторон потянулись люди, разные. И не только хорошие, но и с какими рядом стоять совесть не позволит: кому узнать, посадят или нет, кому, какие акции покупать, кому, жить с женой или разводиться. Надежда пыталась от них скрыться, так за ней настоящую охоту с сыщиками устраивать стали.
И исчезла Надежда из села-города. Много версий гуляло, что с ней стало. Одни утверждали, что бандиты ее убили за помощь жертве намеченной. Другие уверяли, что увезли ее в научный городок, закрытый для изучения сверхспособностей. Третьи, что забрал ее к себе советником сам министр иностранных дел. Любому понятно, что язык без костей, намолотит все, что угодно. Но постепенно привыкли жить без ее милой улыбки, без ласкового голоса, без ее утешений.
Года через три тетка Лапина, возвратясь с Севера от своей сестры двоюродной, удивила соседок рассказом, как в одном монастыре встретила Надежду. Повинилась перед ней за грубости свои, с горяча высказанные.
А Наденька тоже попросила прощения у всех, у кого обиды на нее сохранились. Хотела она, чтобы люди день свой начинали с благодарности и Богу, и солнышку, и своим родным, и соседям, чтобы улыбки свои друг другу дарили. Счастье выращивать надо. Счастье – оно, как золото. Везде оно есть, но на поверхности не лежит, его и распознать и по крупицам-песчинкам собрать требуется. Как золото по частичкам крохотным соберешь, тогда и ценность оно обретет. Так и счастье из маленьких радостей, иной раз и не заметных, складывается. А если за заботами и хлопотами не заметишь радость, не оценишь ее, она может и не повторится, исчезнет навсегда. И счастью неоткуда будет появиться.
И еще. Перед сном, день завершая, опять говорили спасибо Богу и за все хорошее, что случилось, и за то, что плохое перенести удалось. Да благодарили людей и природу за подарок – прожитое мгновение жизни.