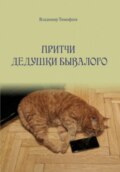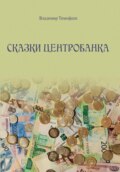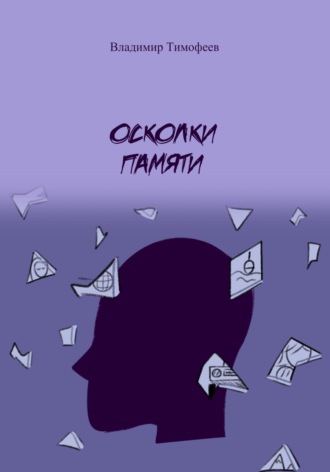
Владимир Тимофеев
Осколки памяти
Днем поводов для воспоминаний было мало. Разве только кто-нибудь не затеет разговор о жизни в Казахстане, Калмыкии, во Владимирской области. По праздникам – на Новый год, 23 февраля, 9 мая, 7 ноября по телефону звонят бывшие дорожники. Правда, с каждым годом число их редеет и звонков становится все меньше. Хотя бывший дорожный мастер Харлам держится. Он звонит из Греции регулярно. И после приветствий обязательно говорит, что, работая в ДЭУ, ни он, ни другие не понимали, что жили при коммунизме, и только теперь осознали это.
Харлам в партии не состоял, и никакой идеологической подкладки в этом его заявлении не было. Он имел в виду материальную составляющую его представлений о коммунизме. И не только высокую заработную плату.
Как только вышло постановление Совета Министров СССР о развитии подсобных хозяйств при предприятиях, Валентин активно принялся его выполнять. Уже через два года в подхозе ДЭУ была построена свиноферма на 600 свиноматок, коровник на 100 голов крупного рогатого скота, разведен сад на двух гектарах, пасека на 50 пчелосемей. Но главное, на арендованных землях добились отличных урожаев зерновых, которых хватало не только для обеспечения кормами подхозных животных, но и для продажи своим рабочим. Многие стали сами разводить кур, индеек, кроликов, нутрий, держали свиней и коров.
Когда Хрущев ввел идиотские налоги на доход крестьян от их личных приусадебных участков, то рассчитывал, что они будут больше работать в колхозах. Но достиг прямо противоположного результата. А вот после создания подсобного хозяйства в ДЭУ люди стали работать еще лучше, поскольку четко знали, что увольнение непременно повлечет и лишение возможности пользоваться его продукцией.
С выращиванием кормов хлопот было много. Разумеется, колхозы отдали в аренду далеко не лучшие поля, и получить достойный урожай было не просто. Но Валентин сразу пошел новаторским путем, несмотря на тяжелые условия выращивания зерновых в зоне рискованного земледелия. Он последовал рекомендациям ученых и вспахал земли не отвальными, а дисковыми плугами. После трех лет безоглядного освоения целинных земель повсеместно начала развиваться эрозия почвы. Тогда-то и стали не только рекомендовать, но и поставлять дисковые плуги в колхозы и совхозы. Однако большинство «по привычке» продолжало пахать отвальными плугами.
На границе Мойынкумской пустыни земли были бедными. Но если примерно в середине мая, когда зерновые, использовав сохранившуюся с зимы влагу, подрастали до 25-35 сантиметров, выпадали дожди, урожай получали неплохой. Однако за пятилетку такое происходило не чаще двух раз, один-два года дожди выпадали позже, где-то в середине июня, а один-два года вообще не выпадали. Соответственно, колхозы и совхозы пару лет выполняли, а порой и перевыполняли планы, один-два года не полностью выполняли обязательства перед государством, а в засуху один-два года оставались без урожая.
Далекому от деревенской жизни городскому человеку не понять, причем же здесь нежелание пахать дисковыми плугами. А при том, что крестьяне народ хитрый и умный. Был в районе один колхоз, где всегда, ну или почти всегда, получали хорошие урожаи, где применяли все новое, хоть рекомендованное сверху, хоть своей головой придуманное. И этот колхоз был прибыльным. По итогам года и колхоз, и председателя ставили в пример, поощряли. И был колхоз, который и в тучные годы ничем похвастаться не мог. И в том и в другом колхозе решают, например, построить клуб. Богатому колхозу выдают кредит. А бедному, поскольку ему кредит из-за убыточности не положен, строят клуб за государственный счет. Богатый вынужден работать еще интенсивнее, чтобы рассчитаться с банком. А бедный получает клуб «за так», продолжая работать кое-как. Ну, и какая разница, чем пахать?
На второй год существования подхоза в области и случилась засуха.
В таких случаях на места направлялась комиссия для осмотра полей и «списания» убытков во главе с секретарем обкома по сельскому хозяйству. Кавалькада из десятка машин разного калибра областных начальников выдвинулась из Джамбула. В каждом районе к ней присоединялись районные начальники, а также председатели и главные агрономы колхозов. Поскольку одновременно контролировалось состояние дороги, в колонне шел и ГАЗ 69 с Валентином.
Члены комиссии видели по обе стороны дороги безрадостную картину полной победы суховеев над крестьянскими надеждами: всюду царствовала пустыня. Лишь кое-где безжизненно выглядывали поникшие бледно рыжие кустики несостоявшегося урожая.
И вдруг перед ними появилось поле зрелого ячменя. Поначалу многие приняли его за мираж, возникший из несбывшихся мечтаний. Кавалькада остановилась. Все комиссары во главе с секретарем обкома спешили убедиться, что перед ними действительно реальные плотно стоящие стебли ячменя с радующими глаз полновесными колосьями.
Из этой передряги Валентин вышел с честью: секретарь обкома пожелал познакомиться с неординарным агрономом с целью его перевода в сельхозуправление. Валентину с трудом удалось предотвратить эту беду, потому что от толкового специалиста потребовали бы моментального чуда в «деле поднятия урожайности зерновых» по всей области. А чудо заключалось не только в использовании дисковых плугов, а, в первую очередь, в добросовестном труде людей, неукоснительном соблюдении давно известных приемов обработки земли и наличии соответствующей техники. Агроном не был волшебником и не справился бы с такой задачей со всеми вытекающими из этого последствиями.
У следующего арендованного ДЭУ поля комиссия уже не останавливалась, продолжив, не снижая скорости, осматривать печальные итоги стихийного бедствия и беспомощности людей.
На следующий год Валентин лишь ценой невероятных усилий сумел получить в аренду пару полей. Никто из председателей колхозов не хотел, чтобы рядом с их полями были подхозные, уж очень разительна была разница.
Невольно всплыли и очень неприятные воспоминания, напрямую связанные с этими самыми урожаями. В стране в то время повсеместно продвигался лозунг о создании двухгодичного запаса кормов для животноводства. Валентин не только горячо его поддержал, но и воплотил в жизнь с перевыполнением – в подсобном хозяйстве хранился их трехгодичный запас. Естественно, он не афишировал это достижение.
Но утечка информации все-таки произошла, и первый секретарь райкома пригласил его на беседу. После дежурных вопросов о состоянии дел в ДЭУ он сказал, что в районе сложилась тяжелая ситуация, не выполнен план по поставкам зерновых. Все руководители совхозов и колхозов выложили все, что только могли. А в подхозе ДЭУ в очередной раз получили почти по 50 центнеров зерновых с гектара. И кормов для содержания своего скота заготовлено с избытком. Надо помочь району в сдаче зерна. Для этого требуется не продавать его излишки работникам, а в подхозе оставить запасы только до следующего урожая, Все остальное надо сдать в район.
Валентин отказал не сразу. Он объяснил, что ДЭУ регулярно безвозмездно поставляет мясо, молочные продукты, фрукты и мед районному детскому дому. То же самое получает ведомственный детский сад. В этом году построен первый в районе плавательный бассейн, которым могут пользоваться дети всего села, высажен большой общественный сад. Яблоки, груши, вишни, черешни и абрикосы бесплатно собирают все односельчане. Каждый работник ДЭУ приобрел за год по нескольку десятков килограммов говядины и свинины по цене в один рубль.
Все это благополучие стало возможным благодаря труду коллектива ДЭУ. Люди поверили, что работая бесплатно по субботам и воскресеньям, они выполняют государственную продовольственную программу и одновременно трудятся на себя. Никого убедить в том, что сданное зерно будет возвращено не только в следующем году, но и вообще когда-нибудь, не удастся.
Первый секретарь продолжал настаивать:
– Вы опытный авторитетный руководитель, старый член партии, поэтому сумеете убедить народ, как важно помочь району и области. В конце концов, Вы что? Пойдете на поводу у своих подчиненных?
– Решение ЦК партии и Постановление Совета Министров СССР о создании подсобных хозяйств у нас размещено на стенде информации. Каждый прочитал их. В том числе и седьмой пункт, где указано на недопустимость практики некоторых обкомов и райкомов, принуждающих сдавать продукцию подсобных хозяйств в целях выполнения государственного плана.
– Вы на что намекаете? Что я и обком нарушаем решения партийного руководства? В последний раз спрашиваю, сдадите зерно или нет?
– Я уже дал ответ. Корма останутся в подхозе ДЭУ.
Он подошел к дверям и открыл их.
– Не сдашь зерновые, выложишь партбилет! – уже в полный голос заорал секретарь.
Валентин почувствовал себя так, как будто вновь стрелял из родной «сорокопятки» в свой последний день на фронте. Он твердо и тоже в полный голос ответил:
– Партбилет я получил на фронте! Не ты его мне вручал, не тебе его и забирать!
Урожай остался в подхозе.
Через полгода первого секретаря направили руководить другим ответственным участком. Но перед отъездом он успел напакостить Валентину – не согласовал представление министерства автомобильных дорог Казахстана к ордену «Знак почета», как победителю Всесоюзного социалистического соревнования.
Бывало и так, что он просыпался утром и не чувствовал боли ни в ногах, ни в позвоночнике, а если еще и приходили звонки от внука или внучки, то жизнь не казалась такой уж бессмысленной. Валентин подумывал, а не съездить ли к ним в гости на пару дней. Иногда даже пробовал делать утреннюю гимнастику, пытаясь оживить ноги, но повторить подвиг, совершенный 75 лет назад, уже не получалось. Он горько подшучивал, что без овец и коров ноги не видят смысла бегать. И отказывался от мыслей о поездках в гости не на какое-то время, а навсегда.
Но не это было причиной самых тяжелых переживаний. Когда он читал газеты и узнавал, например, о судьбе Крыма или о войне между Арменией и Азербайджаном, то непременно спрашивал, заранее зная ответ: «Они что, отделились от России?» А получив утвердительный ответ и разъяснения, что уже 30 лет, как все республики стали самостоятельными, обязательно добавлял: «Они что? Неужели не понимают, что вместе жить лучше?» Последние годы это превратилось в подобие ритуала. Дочь и зять поначалу возмущались, сколько, мол, можно повторять одно и то же, но затем до них дошло, что эти повседневные повторы снимают острую боль от произошедшей катастрофы.
Валентин защищал на фронте Родину. Она называлась Советский Союз. Так же, как и миллионы солдат и офицеров, погибших и выживших, и сумевших победить врага. Распад СССР он воспринимал, как поражение в той войне, которая не отпускала его, не позволяла стереть из памяти тяготы и лишения, жертвы, которые потребовались для Победы. А переименования Сталинграда и Ленинграда были подобны взрывам спрятанных мин, выжидавших своего смертоносного торжества. Разум отказывался принять это, как желание народа, частичкой которого был он, его родные и товарищи. Валентин надеялся, что все это какая-то болезнь, временное безумие. Оно непременно закончится, и люди выздоровеют. Ну, не может быть так, чтобы фашисты добились своей цели – стерли с лица земли и из памяти людской Ленинград и Сталинград.
Думать об этом было невыносимо больно. Чтобы хандра не одержала верх над не привыкшим пасовать перед трудностям характером, память из своих глубин, а иной раз и с «поверхности», заботливо доставала что-нибудь хорошее.
Перед празднованием 60-летия Победы в конце апреля к нему в квартиру неожиданно пришли два офицера и прапорщик из Владимирского военкомата. Сказать, что он удивился, – не сказать ничего. Когда вам почти восемьдесят лет, и к вам приходит такая группа из ведомства, с которым вы распрощались 25 лет тому назад, любой может впасть в ступор. Но повод был знаменательный и замечательный – они пришли для вручения ему ордена «Красной звезды». Валентин помнил, что его представили к ордену незадолго до фатального ранения. Но получить его не успел, а впоследствии решил, что документы утрачены. Однако Министерство обороны выполнило долг перед ветеранами и провело колоссальную работу по поиску воинов, которым в силу разных обстоятельств ордена и медали не были вручены. Поисковики начали с запроса в Алма-Атинскую область, где Валентин вступил добровольцем в Красную армию, и последовательно прошли все этапы его долгой жизни во Фрунзе, в Джамбульской области Казахстана, в Калмыкии и, наконец, «настигли» его во Владимире.
Валентин обрадовался боевой награде. Ему принесли не только орден, но и копию наградного листа: «…28.10.1944 года в бою за мес. Немитас, уезда Ауце Латвийской ССР гвардии рядовой огнем своего противотанкового орудия уничтожил два станковых пулемета противника вместе с прислугой. В том же бою, во время контратаки противника уничтожил и рассеял до взвода вражеской пехоты. Находится в строю. Достоин правительственной награды ордена «Красной звезды». Командир полка гвардии майор Куликов».
Хуже всего было просыпаться осенью, когда за окном стояла самая мерзкая для пехоты и артиллерии погода – обложные дожди, моросящие постоянно и прерывающиеся только для того, чтобы на два-три часа превратиться в ливневые потоки. Серые дни накладывали отпечаток и на черноту ночи. Вода, которая в пустыне была невероятным благом, в Москве в октябре-ноябре превращалась в назойливую беду. Сумрачная серость придавала всему ощущение старости, ветхости и уныния. В такие ночи Валентину еще острее казалось, что пора покинуть этот безрадостный мир. И очередная неудача встать на ноги на этом фоне была лишь малозначительным эпизодом завершения жизненного пути.
Станцию Ауце в первый раз освободили 9 августа 1944 года. Немцы перешли в контрнаступление и добились отступления наших войск. Вытеснили их окончательно как раз 28 октября, когда Валентин и уничтожил два фашистских дзота. Тогда тоже непрерывно шел дождь. Но слякоть затрудняла контратаки немцев, выдохшаяся пехота передвигалась медленнее, и, соответственно, оставляла больше времени для прицеливания. Германские войска откатились в сторону границы Литвы. Но это не было «драпанием», они отходили на очередной рубеж обороны. И теперь уже наши войска наступали по глубокой грязи, подставляясь под немецкие пули. Атаки и контратаки непрерывно следовали друг за другом. Вот и последний его день на войне для Валентина закончился под таким моросящим дождем.
В 1965 году он с женой и дочкой поехал навестить родственников в Риге, в освобождении которой он принимал участие, его дивизии в связи с этим было присвоено наименование «Рижская». В октябре 1944 года в городе его батарея была всего два дня. И все эти два дня в узких улочках шли бои, так что было не до экскурсий, никаких достопримечательностей Валентин тогда не заметил. Через двадцать лет он смотрел на сохранившиеся красивые дома, на чистенькие и по-прежнему узкие улочки, но не прислушивался к гиду, а пытался вспомнить, по какой из них они прорывались к центру. Главное, что он так и не решился проехать сто километров до Ауце, чтобы попытаться отыскать место своего последнего боя. Как бы высокопарно это не звучало, но Валентин обильно полил кровью латышскую землю, и до распада Советского Союза считал, что не зря. А после объявления Латвии о выходе из СССР в сознании поселилась и осталась уже навсегда мысль о предательстве не только многократных заявлений на уровне республик о нерушимой верности и вечной дружбе, а лично его самого. Может быть, и поэтому он сейчас не любит говорить о своем последнем сражении.
Сегодня ни дождя, ни снега не было. Солнце заливало теплым светом все комнату. Валентин, хотя и лежал привычно поперек кровати, не чувствовал отчаяния и злости на свою беспомощность. В такой день он не хотел покидать мир. Дочь с зятем, обнаружив его очередную попытку побега, привычно укоряли его в пренебрежении любовью внуков и правнучек.
Но когда, следуя по накатанной колее, подошли к теме соревнования с английской королевой, Валентин вдруг прервал их вопросом:
– А известно ли вам, что у моей британской соперницы появилась уже девятая правнучка?
Он сделал паузу и неожиданно звонким голосом продолжил:
– Вот вы настаиваете на продолжении моего соревнования с английской соперницей, и хотите, чтобы я непременно победил. Но по правнучкам я проигрываю со счетом 5:9. А до окончания первого тайма – нашего совместного празднования векового юбилея – осталось всего-то пять лет. Так что я согласен бороться и дальше, но побеждать надо на всех фронтах. Вы должны подарить мне еще 5 правнуков!
Он ударил по краю кровати.
– Время пошло!