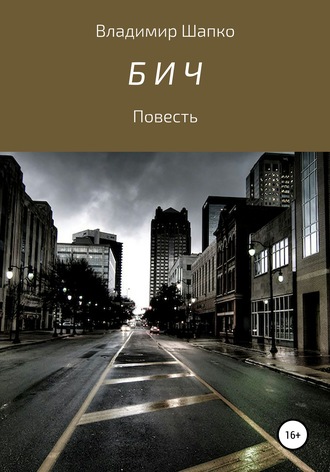
Владимир Шапко
Бич
15
Луньков запил. Два дня и две ночи пропивал он и подлые деньги Роберта, и свои – горбом заработанные в Щекотихе.
Первые полдня, казалось, только и делал, что лихорадочно бегал к гастроному и обратно – бутылки в сторожке на столе копились, точно на конце конвейера. Быстро опоражнивались. Требовали новых, более мутных, тяжелых.
Потом, вопреки всегдашней своей, за мышиные годы натренированной осторожности, пошёл болтаться по городу. Пьяный.
В кассе совсем другого кинотеатра совсем другой девице – испуганной, вскочившей, – разоблачающе грозил пальцем: «А-а! Сартра читаешь! А сама что делаешь? А сама? Почему – вразброс сажаешь, а? Почему – вразброс? И-ишь ты-ы!..»
В большой толпе на остановке метался среди шарахающихся от него людей. В закинувшейся на затылок шляпке, распаренный, как ангел. «Мы вместе! Товарищи!» Хватал их за руки, за плечи. Словно пересчитывал. «Мы вместе, вместе, товарищи! Спасибо вам! Спасибо! Мы вместе! Я теперь спокоен! Спасибо вам! Абсолютно спокоен!.. Я…»
Счастливый, плача, уходил от толпы, оборачивался, вздёргивал по-ротфронтовски кулак, снова шёл, всхлипывал, шептал что-то… Как его не избили в тот день, как не замела милиция – одному Создателю известно.
Другим же днем, весь отравленный, красно поддутый винными парами – висел в сторожке на стуле. (Дым от забытой сигареты словно торопился напитать, ещё больше отравить безвольную, свисшую руку.) Ударенный подряд двумя стаканами портвейна, почти не слыша себя в образовавшемся красном гуле, пытался писать в тетради и давал вдобавок «звуковое письмо»:
…И вообще ты, Люба… дрянь… Эта… как её? Любка! Вот… Стерва… И плюю я на тебя с самой высокой колокольни. И не спорь! Я знаю! Точно! Вот так!.. И на Михалева твоего плюю! М-михалев… И с такой вот… б-белогвардейской фамилией он – мужчина. А я, я, Луньков, советский – нет… Да-а-а… Да его же не видать, он же микроскопичен, как мушка, как блоха, которую надо – ногтем, ногтем! Вот так! Так!.. И ты – его подруга. Его подстилка. Его Скальп. Не спорь! Я сказал! Точка! Вот так!.. А я – разрюмился тут, сопли распустил по всей тетради. Не спорь, я сказал!.. Я, между прочим, в СМУ теперь, Любовь Ивановна. Скрывал. Начальник объекта. Не спорь! Я знаю! И ежемесячно – 260 – пожалуйте в кассу, Игорь Петрович. Вот так! И любок таких, как ты, у меня – сотни. Полный объект. По всем этажам. Бегают, снуют, понимаешь… Любую малярку беру, прораба Гришку со Скальпом беру – и ко мне. А они в джинсах обе. На каблучках. Идут-цокают впереди. Тощие. Как ковбойские сёдла… Дома забавляемся… Вот так! И не спорь! Я знаю!..»
Ещё пил. Раскачивался на стуле, выкрикивал. Шариковая ручка в его руке, как сама по себе, дёргалась в тетради. Потом вздрагивала, рывками везлась по странице, чиркнула и упала с рукой со стола. Луньков обвис на стуле, как после пытки.
А в комнате через дорогу, с болью прижав к себе притихшего сына, покачивалась мать. Словно вдруг испугалась чего-то. Тоскующе смотрела в темень за окном.
16
Очнулся на третий день к вечеру.
Стоял, смотрел на опрокинутую, влипшую в разлитое вино бутылку… С испугом не понимал шизического, начерканного в тетради… Полнясь алкоголическими своими слезами, медленно сдирал, комкал страницы.
Однако это не помешало ему через несколько минут нахватать по всей сторожке в мешок бутылок и помчаться сдавать.
И только в тесном дворе, перед обшарпанной хибаркой с висящим замком, опомнился он. Сидел на пустом винном ящике, отворачиваясь от липнущих отовсюду окон дома, неверной судорожной рукой отирал платком пот… С тихим стекольным кляком рассыпал бутылки по траве возле хибарки. Подумав, бросил там же и мешок.
Выходя со двора, увидел, как какая-то старуха ползала на коленях, собирала его бутылки в свою сумку. Торопилась, озиралась по сторонам. Как собака, первой набежавшая на объедки, хватающая их… Луньков отвернулся. Задирая голову, словно потеряв зрение, пошёл.
…Когда я встречаю, Люба, старых опустившихся людей, которым уже Наплевать, когда я вижу какого-нибудь старика, отрешённо бредущего в своих ботах «прощай молодость», я вспоминаю свою мать… Нет, она не бродила в последние годы свои в драной обуви и с драными хозяйственными сумками. Прожила жизнь достойно, на пенсии держалась стойко. Но я вовек не забуду, Люба, как она… как она танцевала на нашей с тобой свадьбе. Танцевала, прискакивала в вальсе по моде 20-30-х годов. И эта прискочка её была страшной… Она вне её была. Вне состояния её на этой свадьбе. Безвольно помнило эту прискочку только старенькое её тельце. Которое алчно охватывал какой-то рассклеротившийся старикашка из вашей родни…
Господи, кто мог понять её тогда, в расшурованной уже, уже Обязанной прокуролесить свадьбе?.. Её – седенькую, в каком-то своем креп-жоржетике, точно в мешочке… танцующую как в бреду, с закинутыми… с распятыми! словно глазами, в которых прыгало с нелепой этой прискочкой только одно: «у меня нет больше сына! нет больше! нет больше! нет!..» Гос-по-ди-и!..
А ты смеялась, Люба, глядя на нее. Хихикала. С наивностью недалёкой простушки. Подталкивала меня локтем… О-о-о! Каково ей было на этой свадьбе! Ей, – родившей сына в сорок два года! Родившей в долгих муках, с большой кровью! Ей, – теряющей сейчас его, своё единственное оправдание на этом свете, свою мечту, надежду!.. Ведь она сердцем чувствовала, что сын её не в свои сани сел. Сердцем! Знала, Знала Уже Тогда, чем всё кончится!..
«Скучно на этом свете, господа», – сказал русский наш великий писатель… Нет, Люба. «Грустно… больно на этом свете – надо бы сказать… Очень больно, Люба…
Луньков шёл, сморкался, вытирал глаза. Остановился на углу. Куда идти – не знал… Как часто бывало после запоев, подступил внезапный сильный голод. Пустой желудок, казалось, ссохся, как грушка. Пылал. Луньков сглатывал и сглатывал слюну. От слабости обдавало потом, кружилась голова.
И дальше только голод толкал его с одной улицы на другую. От одной забегаловки к другой, к столовым, к кафе… Но за окнами везде стояли или сидели люди. Много людей. И по малой опытности Лунькову казалось, что осуществить это там нельзя. Не получится у него.
Старался не смотреть на столики, проходя мимо бесконечного ресторана. Везде за ними колготили, насыщались, радовались люди. Мужчины, женщины. Поторапливались озабоченно официантки с подносами, обкормленными едой. Сытые философные бармены болтали коктейли… И опять на пути возникали столовые, где к раздаточным в нетерпении теснились люди. Все с железными подносами. Как с откованными, по меньшей мере, индульгенциями в рай.
Уже в сумерках остановился перед крошечной закусочной, запрятанной в тяжелое здание в центре города. И нырнул туда. А там, он помнил, было два зальца: налево – что-то вроде буфета, там полуфабрикаты, всегда очередь, и направо – как бы столовая: с раздаточной, с горячим, с пятком высоких мраморных столиков… Луньков шмыгнул направо.
В углу у окна ели две полные женщины со свежими одинаковыми, наверное, только что из парикмахерской, причёсками. На раздаче суетилась повариха. Она была к Лунькову спиной.
Луньков подошёл к ближнему столику. Слил с двух тарелок в третью, пустую. Схватил ложку, торопливо начал хлебать…
– Нет, ты посмотри, а? – как ударили слова из угла. – Ты посмотри!.. Да сколько же их, паразитов? Вот только тебе рассказывала про такого! И вот ещё один… В шляпе… Нет это невозможно!
Послышался даже звяк брошенной ложки. В тарелку.
Луньков застыл, дожидаясь новых слов, продолжения, («Ну же! Ну! Давайте же! Давайте!»), дико смотрел в стену, вымазанную краской точно сизым салом… Сглатывал, сглатывал подкатывающую тошноту…
По улице бежал, удёргивал за собой рвоту, распугивая прохожих, пока не припал к урне…
Потом сидел в чахлом раскидавшемся сквере. Напротив, весь промокший, растопырился свилеватый клён, уже оббитый непогодой. Такой же одинокий, голый, над ним загнулся и зяб фонарь.
Поза Лунькова была вольной, отдыхающей: нога кинута на ногу, со спинки скамьи свисла рука. Но торопящиеся две девчонки на каблучках и в плащиках… как споткнулись об него. Каблучки растерянно постукали и остановились… «Смотри, – плачет… Может, подойдем? А?» – «Что ты – пьяный!» – И девчонки заторопились дальше.
Кистью руки Луньков отёр щёки, глаза. Поднялся. Пошёл, как разучившийся ходить старик, – шаря дрожащими ногами. Свистели дырявые кеды на холодном мокром асфальте. Луньков запахивал полы плащишки, зажимал озноб.
17
Мальчишка сидел у настольной лампы и готовил уроки… И глядя сейчас на склонённую голову, на беззащитную худую шейку, видя, как мальчишка откидывается от тетрадки в затенённое тихое счастье свое и любуется написанным… Луньков с болью опять ощутил, что и он, теперешний Луньков, был когда-то Игорем Луньковым. Игорёшей. Игорьком. Был таким же худеньким мальчишкой, с маленьким своим нетребовательным тихим счастьем…
…Господи, Люба, ведь каждый пьяница был ребёнком. Нельзя без боли подумать об этом. Осознать без боли его незнание ещё… Доверчивое, раскрытое всем… И не забыть никогда этого своего далёкого, теплящегося в ночи счастья… Ведь до конца жизни будет глодать вина перед этим далёким мальчишкой, доверчивые глаза которого в беспутстве своём ты подло обманул, предал, пропил…
Луньков набычивал голову, опять вытирал кистью руки слёзы.
Уже поднимался на крыльцо, доставал ключ… и остановился – пыльная мешковина на окне задохнулась электрическим светом… «Господи, ну сколько же можно! Ведь хватит на сегодня, хватит!»… В тоске маялся на крыльце, долго не заходил…
Кошелевы сидели на диване. Который у окна. Сидели развалившись. Как после бани, свёкольные оба, налитые. На столе стояли водочные две бутылки – одна уже пустая, другая пустая наполовину. Валялись жёлтые огрызки огурцов, полкольца не сожранной ещё колбасы.
«Обделали дельце. Обмывают». Тихо Луньков сказал: «Добрый вечер». Повернулся к ним спиной. Вытирал ноги о половичок. Снимал, вешал плащ, шляпку. Прошёл к своему дивану, приглаживая волосы. Хотел взять журнал и уйти в коридор костюмерных…
– А-а! – словно только сейчас увидев его, воскликнул Гришка. – А вот и автор долгожданный! А вот и сам писатель!
Напрягшись, выдернул из-за спины своей толстую тетрадь Лунькова в коричневой истёршейся обложке.
– А вот и сам роман гениального автора! А вот сейчас и почитаем.
Луньков кинулся отнять. Гришка резко пхнул его ногой. Искал, листая. И вскинул руку с тетрадью:
– Вот это! Вот – гениальное!.. «У нас ещё тёплые дожди, Люба. Светлые, грустные. Очищающие словно землю. Душу. Даже грязи вокруг как-то не замечаешь… Только тёплый дождь и тёплая парная осень по деревьям и земле… Удивительная осень в этом городе. У-удивительная!» А? Ха-ха-ха! Или вот. Вот еще! Гимн труду… «Люба, какое это счастье вновь обрести себя! Ощутить своё тело! Ощутить каждый свой мускул! Мышцу! И всё это, Люба – ра-бо-та. Работа в радость, Люба, в очищение…» А-ах-хах-хах-хах!
Как пойманный, Луньков метался по комнате. Весь дрожал, дёргался. «Да сколько же можно измываться над человеком? Где предел издевательствам над человеком? Где предел всемирному этому садизму?» Казалось, он забыл про хрюкающих над тетрадкой Кошелевых. Но подскочил к ним, застенал:
– Ну зачем это вам? Зачем? Вам?! Отдайте! Прошу!..
Сел. Прямой. Отвернулся. Как залубенел, плача.
– О-ох-хох-хох! А вот ещё, ещё! Торжественное! Клятва!.. «Люба. Ты – единственное, что осталось у меня на земле! Тоска моя по тебе, любовь моя к тебе – бес-пре-дель-ны!».. И-их-хих-хих-хих!
Луньков вскочил. Лицо его перекосилось. Луньков оскалил зубы:
– Ненавижу!.. Слышите?!
И – как плюнул:
– Опившиеся клопы!
– Что, что ты сказал? – легко взнялся к нему Гришка. – Ну-ка, повтори…
– Опившиеся… щекастые… похотливые клопы!.. Ненавижу!
От пощёчины Луньков подскокнул. Защищаясь, выкинул вперёд руки в нелепой боксёрской стойке. Прятал, прятал в них голову. «Бейте, бейте, гады!» – Кулаки дрожали, вскидывались, вскидывались…
Гришка раздёрнул руки Лунькова и с раскачкой, резко ударил снизу вверх. В лицо. Лунькова ослепило, откинуло на мешки с тряпьём. Он сполз на пол. Гришка наскочил, с размаху ударил ногой. По рёбрам. Ещё раз. Под дых. Ещё… Луньков сгибался, дёргался. Без воздуха. Синий…
– Ну хватит, хватит! Убьёшь, – оттащил Гришку Кошелев.
Но Луньков полз к ним, икал красной пеной, сипел: «Нена…ви…жу… слышите?.. нена…ви…жу…»
– Убери его! – попятился Гришка. Слезливо выкрикнул: – Убью ведь!
– Ну-ну, – приобнял, как маленького успокаивал сына отец. – Послезавтра ведомость подпишет – и к чёртовой матери!
Они быстро рассовали по карманам водку, огурцы, колбасу, сдёрнули свет и вышли.
Луньков вздрагивал, затихал на полу. «Ненави…ижу… ненави…ижу… сво…олочи…»







