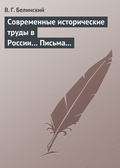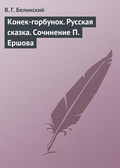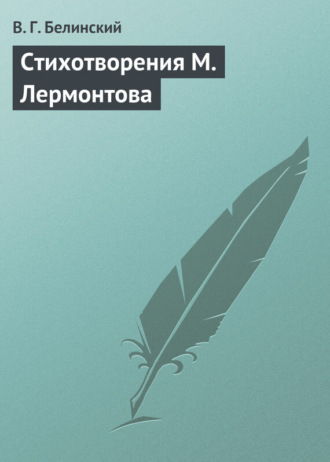
В. Г. Белинский
Стихотворения М. Лермонтова
Другая сторона того же вопроса выражена в стихотворении «Поэт». Обделанный в золото галантерейною игрушкою кинжал наводит поэта на мысль о роли, которую это орудие смерти и мщения играло прежде… А теперь?.. Увы!
Никто привычною, заботливой рукой
Его не чистит, не ласкает,
И надписи его, молясь перед зарей,
Никто с усердьем не читает…
– —
В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
Свое утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, которой свет
Внимал в немом благоговенье?
Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы;
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.
Твой стих, как Божий дух, носился над толпой;
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных.
Но скучен нам простой и гордый твой язык, —
Нас тешат блестки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны…
Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?
Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?
Вот оно, то бурное одушевление, та трепещущая, изнемогающая от полноты своей страсти, которую Гегель называет в Шиллере пафосом!.. Нет, хвалить такие стихи можно только стихами, и притом такими же… А мысль?.. Мы не должны здесь искать статистической точности фактов; но должны видеть выражение поэта, – и кто не признает, что то, чего он требует от поэта, составляет одну из обязанностей его служения и призвания? Не есть ли это характеристика поэта – характеристика благородного Шиллера?..
«Не верь себе» есть стихотворение, составляющее триумвират с двумя предшествовавшими. В нем поэт решает тайну истинного вдохновения, открывая источник ложного. Есть поэты, пишущие в стихах и в прозе, и, кажется, удивительно как сильно и громко, но чтение которых действует на душу, как угар или тяжелый хмель, и их произведения, особенно увлекающие молодость, как-то скоро испаряются из головы. У этих людей нельзя отнять дарования и даже вдохновения, но
В нем признака небес напрасно не ищи —
То кровь кипит, то сил избыток!
Скорее жизнь свою в заботах истощи,
Разлей отравленный напиток!
Случится ли тебе в заветный, чудный миг
Отрыть в душе давно безмолвной
Еще неведомый и девственный родник,
Простых и сладких звуков полный, —
Не вслушивайся в них, не предавайся им,
Набрось на них покров забвенья:
Стихом размеренным и словом ледяным
Не передашь ты их значенья.
Закрадется ль печаль в тайник души твоей,
Зайдет ли страсть с грозой и вьюгой,
Не выходи тогда на шумный пир людей
С своею бешеной подругой;
Не унижай себя. Стыдися торговать
То гневом, то тоской послушной,
И гной душевных ран надменно выставлять
На диво черни простодушной.
Со времени появления Пушкина в нашей литературе показались какие-то неслыханные прежде жалобы на жизнь, пошло в оборот новое слово «разочарование», которое теперь уже успело сделаться и старым и приторным. Элегия сменила оду и стала господствующим родом поэзии. За поэтами даже и плохие стихотворцы начали воспевать
погибший жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет.{10}
Ясно, что это была эпоха пробуждения нашего общества к жизни: литература в первый раз еще начала быть выражением общества. Это новое направление литературы вполне выразилось в дивном создании Пушкина – «Демон»:
В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья —
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь, —
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня, —
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.
Это демон сомнения, это дух размышления, рефлексии, разрушающей всякую полноту жизни, отравляющей всякую радость. Странное дело: пробудилась жизнь, и с нею об руку пошло сомнение – враг жизни! «Демон» Пушкина с тех пор остался у нас вечным гостем и с злою, насмешливою улыбкою показывается то тут, то там… Мало этого: он привел другого демона, еще более страшного, более неразгаданного (Стихотворения М. Лермонтова, стр. 109):
И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды…
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?
А годы проходят – все лучшие годы!
Любить… но кого же?.. на время – не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и всё там ничтожно…
Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка…
Страшен этот глухой, могильный голос подземного страдания, нездешней муки, этот потрясающий душу реквием всех надежд, всех чувств человеческих, всех обаяний жизни! От него содрогается человеческая природа, стынет кровь в жилах, и прежний светлый образ жизни представляется отвратительным скелетом, который душит нас в своих костяных объятиях, улыбается своими костяными челюстями и прижимается к устам нашим! Это не минута духовной дисгармонии, сердечного отчаяния: это – похоронная песня всей жизни! Кому не знакомо по опыту состояние духа, выраженное в ней, в чьей натуре не скрывается возможность ее страшных диссонансов, – те, конечно, увидят в ней не больше, как маленькую пьеску грустного содержания, и будут правы; но тот, кто не раз слышал внутри себя ее могильный напев, а в ней увидел только художественное выражение давно знакомого ему ужасного чувства, тот припишет ей слишком глубокое значение, слишком высокую цену, даст ей почетное место между величайшими созданиями поэзии, которые когда-либо, подобно светочам Эвменид{11}, освещали бездонные пропасти человеческого духа… И какая простота в выражении, какая естественность, свобода в стихе! Так и чувствуешь, что вся пьеса мгновенно излилась на бумагу сама собою, как поток слез, давно уже накипевших, как струя горячей крови из раны, с которой вдруг сорвана перевязка…
Вспомните «Героя нашего времени», вспомните Печорина – этого странного человека, который, с одной стороны, томится жизнию, презирает и ее и самого себя, не верит ни в нее, ни в самого себя, носит в себе какую-то бездонную пропасть желаний и страстей, ничем ненасытимых, а с другой – гонится за жизнию, жадно ловит ее впечатления, безумно упивается ее обаяниями; вспомните его любовь к Бэле, к Вере, к княжне Мери, и потом поймите эти стихи:
Любить… но кого же?.. На время – не стоит труда,
А вечно любить невозможно!
Да, невозможно! Но зачем же эта безумная жажда любви, к чему эти гордые идеалы вечной любви, которыми мы встречаем нашу юность, эта гордая вера в неизменяемость чувства и его действительность?.. Мы знаем одну пьесу, которой содержание высказывает тайный недуг нашего времени и которая за несколько лет пред сим казалась бы даже бессмысленною, а теперь для многих слишком многознаменательна. Вот она:
Я не люблю тебя: мне суждено судьбою
Не полюбивши разлюбить;
Я не люблю тебя: больной моей душою
Я никого не буду здесь любить.
О, не кляни меня! Я обманул природу,
Тебя, себя, когда, в волшебный миг,
Я сердце праздное и бедную свободу
Поверг в слезах у милых ног твоих.
Я не люблю тебя, но, полюбя другую,
Я презирал бы горько сам себя;
И, как безумный, я и плачу и тоскую,
И все о том, что не люблю тебя!
Неужели прежде этого не бывало? Или, может быть, прежде этому не придавали большой важности: пока любилось – любили, разлюбилось – не тужили; даже соединясь как бы по страсти, теми узами, которые навсегда решают участь двух существ, и потом увидев, что ошиблись в своем чувстве, что не созданы один для другого, вместо того, чтоб приходить в отчаяние от страшных цепей, предавались ленивой привычке, свыкались и равнодушно из сферы гордых идеалов, полноты чувства переходили в мирное и почтенное состояние пошлой жизни?.. Ведь у всякой эпохи свой характер?.. Может быть, люди нашего времени слишком многого требуют от жизни, слишком необузданно предаются обаяниям фантазии, так что после их роскошных мечтаний действительность кажется им уже слишком бесцветною, бледною, холодною и пустою?.. Может быть, люди нашего времени слишком серьезно смотрят на жизнь, дают слишком большое значение чувству?.. Может быть, жизнь представляется им каким-то высоким служением, священным таинством, и они лучше хотят совсем не жить, нежели жить как живется?.. Может быть, они слишком прямо смотрят на вещи, слишком добросовестны и точны в названии вещей, слишком откровенны насчет самих себя: протяжно зевая, не хотят называть себя энтузиастами, и ни других, ни самих себя не хотят обманывать ложными чувствами и становиться на ходули?.. Может быть, они слишком совестливы и честны в отношении к участи других людей и, обещав другому существу любовь и блаженство, думают, что непременно должны дать ему то и другое, а не видя возможности исполнить это, предаются тоске и отчаянию?.. Или, может быть, лишенные сочувствия с обществом, сжатые его холодными условиями, они видят, что не в пользу им щедрые дары богатой природы, глубокого духа, и представляют собою младенца в английской болезни?.. Может быть – чего не может быть!..
«И скучно и грустно» из всех пьес Лермонтова обратила на себя особенную неприязнь старого поколения. Странные люди! Им все кажется, что поэзия должна выдумывать, а не быть жрицею истины, тешить побрякушками, а не греметь правдою! Им все кажется, что люди – дети, которых можно заговорить прибаутками или утешать сказочками! Они не хотят понять, что если кто кое-что знает, тот смеется над уверениями и поэта и моралиста, зная, что они сами им не верят. Такие правдивые представления того, что есть, кажутся нашим чудакам безнравственными. Питомцы Бульи и Жанлис, они думают, что истина сама по себе не есть высочайшая нравственность… Но вот самое лучшее доказательство их детского заблуждения: из того же самого духа поэта, из которого вышли такие безотрадные, леденящие сердце человеческое звуки, из того же самого духа вышла и эта молитвенная, елейная мелодия надежды, примирения и блаженства в жизни жизнию (стр. 71):
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко…
Другую сторону духа нашего поэта представляет его превосходное стихотворение «Памяти А. И. О<доевско>го»; это сладостная мелодия каких-то глубоких, но тихих дум, чувства сильного, но целомудренного, замкнутого в самом себе… Есть в этом стихотворении что-то кроткое, задушевное, отрадно успокоивающее душу…
Но до конца среди волнений трудных,
В толпе людской и средь пустынь безлюдных,
В нем тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную.