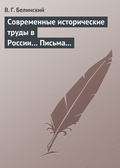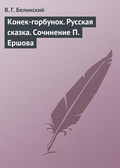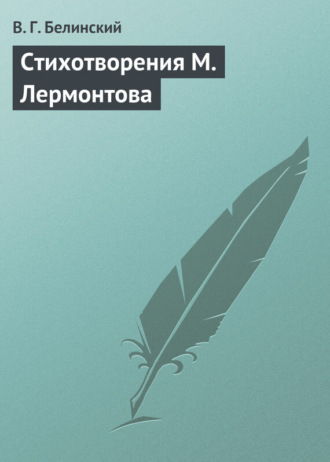
В. Г. Белинский
Стихотворения М. Лермонтова
…Не искусством (техникою), но энтузиазмом и вдохновением великие эпические поэты сочиняют свои прекрасные произведения. Славные лирики также, подобно людям, волнуемым безумием корибантов, пляшущих вне себя, не остаются в уме своем, когда творят изящные песнопения: как скоро вошли они в лад гармонии и рифмы, то преисполняются безумием, объемлются восторгом, подобным восторгу вакханок, которые в минуту упоения черпают в реках млеко и мед, чего не бывает с ними во время покоя. В душе поэтов лирических на самом деле совершается то, чем они хвалятся. Они говорят нам, что черпают в медовых источниках, что, подобно пчелам, летают они по садам и долинам муз и в них собирают пески, которые поют нам. Они говорят правду. Поэт в самом деле есть существо легкое, крылатое и святое; он может творить тогда только, когда восторг его обымет, когда он выйдет из себя и рассудок покинет его. Но покамест он с ним, человек неспособен творить все и произносить пророчества.
Итак, если не искусством, а божественным вдохновением творят поэты, – то каждый из них, по жребию божию, успевает только в том роде, к которому муза его призывает. Один превосходен в дифирамбе, другой в похвальной оде, третий в плясовой песне, четвертый в эпосе, пятый в ямбах, и все будут слабы во всяком другом роде, потому что не искусство, а сила божественная внушает их. Если бы искусством они умели творить, то могли бы успеть в разных родах. А конец, на какой бог, отъемля у них смысл, употребляет их как служителей своих наравне с пророками и гадателями, есть тот, чтоб мы, внимая им, познавали, что не сами собою они говорят нам вещи дивные, ибо они вне своего разума, но что сам бог чрез них к нам глаголет[6].
Этот взгляд на вдохновение, так простодушно, в духе младенческой древности выраженный, удивителен по своей глубокости. Ясно, что Платон «благоразумием» называет рассудочное, обыкновенное, буднишнее, так сказать, состояние нашего духа; а под «безумием» разумеет тот божественный пафос, то состояние вдохновенного ясновидения, когда разум человека созерцает таинство высшего мира, а воля его движет горами. В самом деле, восторг наслаждения, исступление радости, упоение страдания, тоска разлуки, трепет свидания, обаяние любви, отвага самого жертвования, готовность пострадать за правое дело и истину, сладострастие вдохновения: – что все это, если не безумие?.. Но это безумие разумное, безумие божественное, которое возносит человека превыше премудрых мира сего и равняет его с богами… А мертвое равнодушие, затянутое в формы приличия, расчеты мелкого самолюбия и эгоизма, размеренные шаги к ничтожной цели, отречение от истинного назначения человеческого для достижения ее: – что все это, если не благоразумие?.. Но не будем говорить о благоразумии: оно враг поэзии, а предмет нашей статьи – поэзия…
Все, сказанное нами о поэзии вообще, легко приложить к поэзии Лермонтова.
Где вдохновение неподдельно, там есть и поэзия, и чьей натуре сродно вдохновение, тот поэт; но и вдохновение имеет свои степени и в каждом поэте отличается особенным характером: в одном оно искрится и шипит пеною, как шампанское, и подобно шампанскому тотчас же оживляет легким, но и скоропреходящим похмельем; в другом оно льется светлою, прозрачною речкою, с смеющимися зелеными берегами; в третьем оно бьет и стремится бурными волнами, с громом, пеною и брызгами, подобно Ниагарскому водопаду; в четвертом оно подобно океану, без берегов и дна, отражающему в себе и небесный купол, с его солнцем, луною и мириадами звезд, и страшные тучи, с их мраком и молниями, – океану, который равно величествен и торжествен и в тишину и в бурю, который носит на своих могучих волнах и утлый челнок рыбаря, и огромные флоты, и который в необъятных таинственных недрах своих заключает целые миры живых существ, и великих и малых, и горы раковин, и леса кораллов… Жизнь одна и та же во всех своих явлениях, но одно из них объемлет собою только известную часть ее, другое же заключает в себе бесконечно великое содержание жизни. Таково же и отношение между поэтами: в отношении к активу творчества, к процессу вдохновения, песня Беранже совершенно равна любой драме Шекспира, но в отношении к содержанию жизни, которое объемлет собою то и другое из упомянутых произведений, между ими бесконечная разность в важности, ценности и достоинстве. И эта разница существует не только в пьесах различного рода, как, например, застольная песенка и высокая драма: она может существовать и между двумя застольными песнями, написанными на один и тот же предмет, но только разными поэтами. И вот здесь-то можно видеть превосходство одного поэта перед другим: песня одного читается с наслаждением, но редко вспоминается и скоро забывается; другого – чем больше читается, тем больше наслаждения доставляет, и даже прочитанная раз, навсегда остается в памяти – если не словами своими, то своим колоритом, тем «нечто», для выражения которого нет слов на языке человеческом. Сравните «Поэта» Языкова с «Поэтом» Пушкина, которого мы выписали выше, в нашей статье, и с его же стихотворением «Поэту»[7]: сначала вам может показаться, что пьеса Языкова выше обеих пушкинских; но вы скоро, если в вас есть эстетическое чувство, заметите в первой, при всем ее блеске, некоторую напряженность, с какою она составлена, – и благородную простоту, естественность, неизмеримую глубину двух последних и их бесконечное превосходство над первою… Причина этой разности есть разность сколько в таланте, столько и в натурах обоих поэтов: один смотрит на природу вещей извне, видит только ее наружность; другой проник в ее сущность и обратил ее в свое достояние, по праву законного властелина…
Немного поэтов, к разбору произведений которых было бы не странно приступать с таким длинным предисловием, с предварительным взглядом на сущность поэзии: Лермонтов принадлежит к числу этих немногих… Подробное рассмотрение небольшой книжки его стихотворений покажет, что в ней кроются все стихии поэзии, что она заключает в себе возможность в будущем нескольких и притом больших книг… Мы увидим, что свежесть благоухания, художественная роскошь форм, поэтическая прелесть и благородная простота образов, энергия, могучесть языка, алмазная крепость и металлическая звучность стиха, полнота чувства, глубокость и разнообразие идей, необъятность содержания – суть родовые характеристические приметы поэзии Лермонтова и залог ее будущего, великого развития…
Чем выше поэт, тем больше принадлежит он обществу, среди которого родился, тем теснее связано развитие, направление и даже характер его таланта с историческим развитием общества. Пушкин начал свое поэтическое поприще «Русланом и Людмилою» – созданием, которого идея отзывается слишком раннею молодостию, но которое кипит чувством, блещет всеми красками, благоухает всеми цветами природы, созданием неистощимо веселым, игривым… Это была шалость гения после первой опорожненной им чаши на светлом пиру жизни… Лермонтов начал историческою поэмою, мрачною по содержанию, суровою и важною по форме{3}… В первых своих лирических произведениях Пушкин явился провозвестником человечности, пророком высоких идей общественных; но эти лирические стихотворения были столько же полны светлых надежд, предчувствия торжества, сколько силы и энергии. В первых лирических произведениях Лермонтова, разумеется, тех, в которых он особенно является русским и современным поэтом, также виден избыток несокрушимой силы духа и богатырской силы в выражении; но в них уже нет надежды, они поражают душу читателя безотрадностию, безверием в жизнь и чувства человеческие, при жажде жизни и избытке чувства… Нигде нет пушкинского разгула на пиру жизни; но везде вопросы, которые мрачат душу, леденят сердце… Да, очевидно, что Лермонтов поэт совсем другой эпохи и что его поэзия – совсем новое звено в цепи исторического развития нашего общества[8].
Первая пьеса Лермонтова напечатана была в «Современнике» 1837 года, уже после смерти Пушкина. Она называется «Бородино».{4} Поэт представляет молодого солдата, который спрашивает старого служаку:
– Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые?
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина.
Вся основная идея стихотворения выражена во втором куплете, которым начинается ответ старого солдата, состоящий из тринадцати куплетов:
– Да, были люди в наше время.
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри – не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля…
Не будь на то Господня воля,
Не отдали б Москвы!
Эта мысль – жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел. Дальше мы увидим, что эта тоска по жизни внушила нашему поэту не одно стихотворение, полное энергии и благородного негодования. Что же до «Бородина», – это стихотворение отличается простотою, безыскусственностию: в каждом слове слышите солдата, язык которого, не переставая быть грубо простодушным, в то же время благороден, силен и полон поэзии. Ровность и выдержанность тона делают осязаемо ощутительною основную мысль поэта. Впрочем, как ни прекрасно это стихотворение, оно не могло еще показать, чего от его автора должна была ожидать наша поэзия, В 1838 году в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду»«была напечатана его поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»; это произведение сделало известным имя автора, хотя оно явилось и без подписи этого имени. Спрашивали: кто такой безыменный поэт? кто такой Лермонтов? писал ли он что-нибудь, кроме этой поэмы? Но, несмотря на то, эта поэма все-таки еще не оценена, толпа и не подозревает ее высокого достоинства. Здесь поэт от настоящего мира не удовлетворяющей его русской жизни перенесся в ее историческое прошедшее, подслушал биение его пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие тайники его духа, сроднился и слился с ним всем существом своим, обвеялся его звуками, усвоил себе склад его старинной речи, простодушную суровость его нравов, богатырскую силу и широкий размет его чувства и, как будто современник этой эпохи, принял условия ее грубой и дикой общественности, со всеми их оттенками, как будто бы никогда и не знавал о других, – и вынес из нее вымышленную быль, которая достовернее всякой действительности, несомненнее всякой истории.
Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Про тебя нашу песню сложили мы,
Про твово любимого опричника,
Да про смелого купца, про Калашникова;
Мы сложили ее на старинный лад,
Мы певали ее под гуслярный звон
И причитывали да присказывали.
Православный народ ею тешился,
А боярин Матвей Ромодановский
Нам чарку поднес меду пенного,
А боярыня его белолицая
Поднесла нам на блюде серебряном
Полотенце новое, шелком шитое.
Угощали нас три дня, три ночи
И всё слушали – не наслушались.
И подлинно, этой песни можно заслушаться, и все нельзя ее довольно наслушаться: как манием волшебного скипетра, воскрешает она прошедшее – и мы не можем насмотреться на него, забываем для него свое настоящее, ни на минуту не сводим с него взоров, боясь, чтоб оно не исчезло от нас. На первом плане видим мы Иоанна Грозного, которого память так кровава и страшна, которого колоссальный облик жив еще в предании и в фантазии народа… Что за явление в нашей истории был этот «муж кровей», как называет его Курбский? Был ли он Лудовиком XI нашей истории, как говорит Карамзин?.. Не время и не место распространяться здесь о его историческом значении; заметим только, что это была сильная натура, которая требовала себе великого развития для великого подвига; но как условия тогдашнего полуазиатского быта и внешние обстоятельства отказали ей даже в каком-нибудь развитии, оставив ее при естественной силе и грубой мощи, и лишили ее всякой возможности пересоздать действительность, – то эта сильная натура, этот великий дух поневоле исказились и нашли свой выход, свою отраду только в безумном мщении этой ненавистной и враждебной им действительности… Тирания Иоанна Грозного имеет глубокое значение, и потому она возбуждает к нему скорее сожаление, как к падшему духу неба, чем ненависть и отвращение, как к мучителю… Может быть, это был своего рода великий человек, но только не вовремя, слишком рано явившийся России, – пришедший в мир с призванием на великое дело и увидевший, что ему нет дела в мире; может быть, в нем бессознательно кипели все силы для изменения ужасной действительности, среди которой он так безвременно явился, которая не победила, но разбила его, и которой он так страшно мстил всю жизнь свою, разрушая и ее и себя самого в болезненной и бессознательной ярости… Вот почему из всех жертв его свирепства он сам наиболее заслуживает соболезнования; вот почему его колоссальная фигура, с бледным лицом и впалыми, сверкающими очами, с головы до ног облита таким страшным величием, нестерпимым блеском такой ужасающей поэзии… И таким точно является он в поэме Лермонтова: взгляд очей его – молния, звук речей его – гром небесный, порыв гнева его – смерть и пытка; но сквозь всего этого, как молния сквозь тучи, проблескивает величие падшего, униженного, искаженного, но сильного и благородного по своей природе духа…