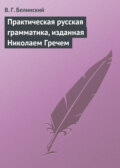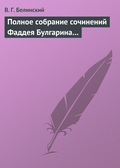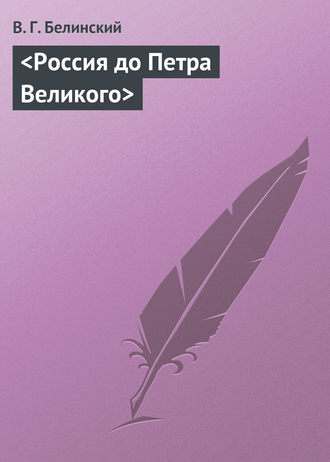
В. Г. Белинский
Россия до Петра Великого
Но такова сила истины, таково непосредственное влияние гения: еще в разгар и самое тяжелое время реформы Петр имел почитателей не только в приверженных к себе людях, но и в тех, которые косо смотрели на его преобразование. Казалось, все, вопреки своему сознанию, признавали необходимость коренной реформы. И не могло быть иначе: Петр явился вовремя. Потребность преобразования сильно обнаружилась еще в царствование Алексея Михайловича, и уничтожение местничества при царе Феодоре Алексеевиче было тоже следствием этой потребности. Но все дело ограничивалось полумерами, не имевшими важных последствий. Нужна была полная, коренная реформа – «от оконечностей тела до последнего убежища человеческой мысли»;{68} а для произведения такой реформы нужен был исполинский гений, каким явился Петр. Полтавская битва не могла не иметь сильного нравственного влияния на народ: многие из самых ожесточенных приверженцев старины должны были увидеть в этой битве оправдание реформы. Правосудие и справедливость царя, свободный доступ к нему всех и каждого, эта готовность прощать личных врагов и злодеев, видя их раскаяние, эта готовность даже возвышать их, если, при раскаянии, видел в них и способности, это божественное самоотречение от своей личности в пользу вечной правды, это высокое самоуничтожение в идее своего народа и своего отечества, – все это покорило Петру сердца и души подданных еще задолго до его кончины. Но когда он умер, не оставив после себя никого подобного себе, – Русь оцепенела, словно удар грома оглушил ее. Лучшая часть народа, принесшая великие и невольные жертвы преобразованию, уже трепетала за участь преобразования и боялась возвращения прежнего варварства. Русь как будто предугадывала эту темную годину, когда ей надо будет влачиться по колее, проложенной Петром, не двигаясь вперед; она как будто чувствовала, что надолго закатилось ее лучезарное солнце, вновь взошедшее на ее небосклон с Екатериною Великою, чтобы уж более не оставлять его. Но каким ударом была смерть Петра для его любимцев, для людей, созданных и образованных его зиждительным духом, его творческим гением! Вот что писал Неплюев о впечатлении, каким поразило его известие о смерти Петра: «1725 года, в феврале месяце, получил я плачевное известие, что отец отечества, Петр Великий, император первый, отыде от сего света. Я смочил ту бумагу горестными слезами как по должности о моем государе и подданных своих истинном отце, так и по многим его ко мне милостям; и – ей-ей! не лгу: был более суток в беспамятстве, – да инако бы мне и грешно было. Сей монарх отечество наше привел в сравнение с лучшими державами, научил узнавать нас свои дарования и способности, и одним словом: на что в России ни взгляни, все его началом имеет, и что б впредь ни делалось, от сего источника черпать будут; а мне собственно был государь и отец милосердый. Да вчинит господь душу сего много трудившегося о пользе отечества монарха с праведниками»[7].
Один старый солдат, по прозванию Кирилов, имел у себя маленький финифтяной портрет Петра, который он ставил с образами, зажигал перед ним свечу и молился ему. Об этом донесли нижегородскому архиерею, при доме которого находился Кирилов. Архиерей осмотрел коморку солдата и, указав на портрет Петра Великого, сказал ему: «Старик, это между святыми иконами стоит у тебя портрет Петра Перваго?» – Да, преосвященный владыко, образ батюшки нашего. – «Но он, хотя был великий и благочестивый государь и достоин всего нашего почтения, однако ж церковь святая не сопричислила его к лику святых, а посему и не должно тебе персону его ставить между образами святых, зажигать перед оным свечу, а меньше еще молиться ему». – Не должно? (перебил речь его с великим негодованием солдат) не должно? Вы его не знали, а я знал: он был наш ангел-хранитель; защищал и охранял нас и все отечество от неприятелей, нес наравне с нами все тяжести в походах, едал с нами одну кашу, обращался с нами как равный и как отец; сам бог прославил его победами, не допустя коснуться до него смерти и раны; а ты говоришь, не должно образу его молиться! – заключил солдат, проливая слезы. Как ни убеждал его архиерей, но солдат согласился только не ставить свечи перед портретом Петра, но оставил его с образами[8].
После этого как понятна эта песня, которую предание заставляет петь солдата на часах при гробе Петра Великого:
Ах, ты, батюшко, светел месяц,
Что ты светишь не по-старому,
Не по-старому и не по-прежнему,
Всё ты прячешься за облаки,
Закрываешься тучей темною…
. . . . . . . .
Расступися ты, мать сыра-земля,
Ты раскройся, гробова доска,
Развернися ты, золота парча,
И ты встань, проснись, православный царь!{69}
Теперь должно нам перейти к личному характеру Петра, как государя, преобразователя и человека. Для этого нам нужно пробежать всю жизнь его и схватить в ней самые резкие черты. Со страхом и благоговением приступим мы к этому труду в следующей статье и постараемся дать почувствовать нашим читателям возвышенную сладость созерцания такой колоссальной личности, каковою была личность Петра. Созерцание всякого великого человека пробуждает нас от дремоты положительной жизни, от апатического равнодушия в прозе забот и нужд житейских, настроивает сердца к высоким чувствам и благородным помыслам, укрепляет волю на благие действия и на гордое презрение к пустоте и ничтожеству мертвого существования и возвышает наш дух к началу всяческой жизни, к источнику вечной правды и вечного блага… А кто же более нашего Петра имеет право на титло великого и божественного и кто же из героев нашей истории может быть ближе к нашему сердцу и духу?..
Примечания
Список сокращений
В тексте примечаний приняты следующие сокращения:
Анненков – П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1960.
Белинский, АН СССР – В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. I–XIII. М., Изд-во АН СССР, 1953–1959.
ГБЛ – Государственная библиотека им. В. И. Ленина.
Герцен – А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах. М., Изд-во АН СССР, 1954–1966.
ГИМ – Государственный исторический музей.
ГПБ – Государственная Публичная библиотека СССР им. М. Е. СалтыковаЩедрина.
ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР.
КСсБ – В. Г. Белинский. Сочинения, ч. I–XII. М., Изд-во К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1859–1862 (составление и редактирование издания осуществлено Н. X. Кетчером).
КСсБ, Список I, II… – Приложенный к каждой из первых десяти частей список рецензий Белинского, не вошедших в данное издание «по незначительности своей».
ЛН – «Литературное наследство». М., Изд-во АН СССР.
Панаев – И. И. Панаев. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1950.
ПР – позднейшая редакция III и IV статей о народной поэзии.
ПссБ – В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., под ред. С. А. Венгерова (т. I–XI) и В. С. Спиридонова (т. XII–XIII), 1900–1948.
Пушкин – А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1962–1965.
ЦГИА – Центральный Государственный исторический архив.
<Россия до Петра Великого>
Впервые – «Отечественные записки», 1841, т. XV, № 4, отд. V «Критика», с. 37–60 (ц. р. 28 марта; вып. в свет 29 марта); т. XVI, № 6, отд. V «Критика», с. 1–18 (ц. р. 30 мая; вып. в свет 31 мая). Без подписи. Вошло в КСсБ, ч. IV, с, 331–399.
Автограф первой статьи, вероятно, утерян. Наборная рукопись второй статьи, являющейся автографом Белинского, с редакторской правкой А. А. Краевского, хранится в ГПБ (ф. 124, № 376).
22 января 1841 г., дописывая письмо к В. П. Боткину, начатое еще 30 декабря, Белинский сообщал, что в ближайшее время приступит к работе о Петре Великом, которая особенно волнует его: она «лежит у меня на сердце, давит его и просится вон».
Первая статья привлекла внимание цензуры. 25 марта 1841 г. Краевский писал цензору А. В. Никитенко: «Типография известила меня, что Вы не высылаете 1, 2, 3 и 4 форм «Критики», потому что ждете конца статьи, которого Вам еще не доставлено. Во всем этом виновата глупая типография; в ней, изволите видеть, не хватило петиту, чтоб докончить статью, которая между тем ужо доканчивается набором. Что же касается направления всей статьи, оно ясно:
Россия тьмой была покрыта много лет;
Бог рек: «Да будет Петр!» и бысть в России свет, —
как говорит известное двустишие, которое и будет выводом всей статьи. В России до Петра были тьма кромешная, люди – почти четвероногие; после Петра сделалось светло и люди становятся людьми, – вот и все. В не доставленных еще Вам формах идут только выписки из Кошихина и Желябужского и ими окончивается статья первая (что дураки наборщики забыли выставить в заглавии статьи); здесь представляется Россия в том виде, в каком она была до Петра – по Кошихину и Желябужскому; во второй статье, которая будет в следующей (5-й) книжке, расскажется, что сделал для России Петр – по Голикову, и потом общий вывод, сходный с началом первой статьи, что Петр для России был богом, в чем я убежден всем существом своим и что говорю смело.
Если Вы находите что-нибудь не так, что-нибудь чересчур жарко сказанное, могущее навлечь на меня какое-нибудь подозрение в каком-нибудь недобром намерении (чего, я знаю, Вы уверены в этом, мне и в голову не могло прийти), я прошу Вас вычеркивать; только, ради бога, не держите этих корректур у себя долее» (ИРЛИ, 18566, л. 94–95).
9 апреля 1841 г. Белинский с горечью сообщал Боткину: «Из моей несчастной статьи вырезан весь смысл, ибо выкинуто ровно половина». В конце статьи, обращаясь к читателям, он просит принять ее «только за предисловие ко второй статье, которая будет уже в следующей книжке», В процессе работы над второй статьей Белинский думает о следующей. 9–10 апреля он заявляет в письме к Краевскому: «Что до 3-ей статьи о Петре Великом, то хоть мне по состоянию моего духа и совсем не до нее, но, разумеется, что я ее буду писать, и потому месяц май, во всяком случае, будет у нас на прежних основаниях».
Однако замыслам автора не суждено было осуществиться. Вопреки его обещанию, вторая статья не появилась в пятом номере журнала, так как была задержана цензурой. Вместо нее, в приведенном, как обычно, на обложке пятой книжки содержании номера, сказано: «По обстоятельствам редакция должна была отложить вторую статью о «Деяниях Петра Великого» и проч. до следующей книжки».
Под формулой «по обстоятельствам» подразумевался общепринятый для читателей того времени намек на вмешательство цензуры. Действительно, сократив вторую статью едва ли не на половину, Никитенко тем не менее не решался подписать ее к печати. Во избежание какой-либо ответственности решение этого вопроса он предоставил на усмотрение цензурного комитета. В «Журнале заседаний С.-Петербургского цензурного комитета» от 20 мая 1841 г. имеется следующая запись:
«В статье этой заключается взгляд на состояние России до Петра Великого и на самые деяния последнего. Автор находит, что русский народ и до Петра Великого заключал в своем национальном духе много прекрасного, но что лучшие его качества были подавлены и остановлены в своем развитии невежеством и разными неблагоприятными обстоятельствами, как-то: нашествие татар и проч., что от этого к нам вкралось много прививных азиатских пороков, как-то: затворничество женщин, лихоимство, лень ума, презрение к себе и проч. Петр Великий является истребителем всего этого, очеловечивая народ и вводя его европейской жизни. При этом автор предлагает некоторые сомнения относительно непогрешимости дел Петра Великого, например, что наша национальность много пострадала от его преобразований, что они касались только одних форм, как-то: бритья бороды и одних высших классов, что напрасно он перенес столицу в Петербург. Все эти сомнения автор опровергает совершенно удовлетворительно, выставляя гений Петра Великого и его дела в самом блестящем свете» (ЦГИА, ф. 777, оп. 27, 1841 г., № 34, л. 50–51; ф. 777, оп. 1, 1841 г., № 1595, л. 2). Исходя из этого, цензурный комитет разрешил «статью эту одобрить к напечатанию» без каких-либо замечаний, что само по себе характеризует предварительно проведенную Никитенко «работу» над статьей.
28 июня 1841 г., продолжая письмо к Боткину, начатое 27 июня, Белинский писал: «В «Отечественных записках» напечатана моя вторая статья о Петре Великом; в рукописи это, точно, о Петре Великом, и, не хвалясь, скажу, статейка умная, живая; но в печати – это речь о проницаемости природы и склонности человека к чувствам забвенной меланхолии. Ее исказил весь цензурный синедрион соборне. Ее напечатана только треть, и смысл весь выключен, как опасная и вредная для России вещь. Вот до чего мы дожили: нам нельзя хвалить Петра Великого». Все это вынудило Белинского снабдить окончание второй статьи примечанием: «Предположенного продолжения статей о «Деяниях Петра Великого», по независящим от редакции причинам, не будет».
Видимо, идя навстречу пожеланиям друзей ознакомиться с полным текстом первой статьи, Белинский отправил рукопись ее в Москву. Об этом известно из его письма к Боткину от 17 марта 1842 г.: «…ты не взял у нелепого К<етче>ра мою статью о Петре Великом и не переслал ее мне с Кульчиком». Была ли в дальнейшем отправлена рукопись автору или осталась в Москве – неизвестно. До нас она не дошла. Поэтому во всех изданиях сочинений Белинского, как и в настоящем, текст первой статьи воспроизводится по ее журнальной публикации. Что же касается автографа второй статьи, то, как это видно из записи на его последнем листе, он был подарен Белинским А. И. Баландину: «Рукопись В. Г. Белинского (за исключением части 24 и 25 листов). Я получил ее от него в исходе 1841 или 1842 года. Она была оригиналом статьи, написанной по поводу нового издания «Деяний Петра Великого», соч. Голикова и др. и напечатана с большими пропусками в «Отечественных записках» (т. XV, с. 1–18). Привязки современной цензуры заставили Белинского отказаться от продолжения его замечательного труда. 22 ноября 1884. Александр Баландин. P. S. Места, обведенные или подчеркнутые красным карандашом – не пропущены».
Текст второй статьи печатается по автографу с устранением правки Краевского, за исключением исправленных им нескольких описок и незначительных пропусков.
Заглавие статьи дано в скобках по колонтитулу «Отечественных записок».
В данной работе наиболее подробно изложены взгляды Белинского на исторические судьбы России – в контексте общечеловеческого развития. Принимая гегелевскую концепцию, критик исходит из того, что сущность истории заключается в последовательном раскрытии некоей (априорно данной) всемирной идеи. Выразителями этой идеи на разных исторических этапах выступают каждый раз новые этнические регионы. На первом этапе такую роль выполняли народы Востока (Китай, Индия, Персия, Египет), на втором – Греция, на третьем – Римская держава, на четвертом – романо-германский ареал. Однако конечный вывод Гегеля о том, что только в романо-германском духовном владычестве всемирная идея реализуется с максимальной полнотой, Белинский категорически отвергал.