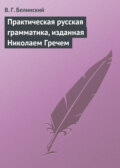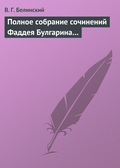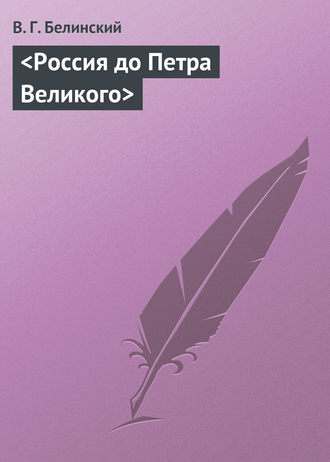
В. Г. Белинский
Россия до Петра Великого
Некоторые приписывают реформе Петра Великого то вредное следствие, что она поставила народ в странное положение: не привив ему истинного европеизма, только отторгла его от родной сферы и сбила с здравого и крепкого природного смыслу. Несмотря на всю ложность этого мнения, оно имеет основание и по крайней мере достойно опровержения. В самом деле, если реформа развязала, так сказать, душевные силы даровитых людей, подобных Шереметеву, Меншикову и другим, зато из большинства сделала каких-то кривляк и шаркунов. Понятно, что старые бояре, отличавшиеся природным умом, упругим характером, не хотевшие расстаться с своею степенною одеждою и оставить суровые обычаи старины, как какой-нибудь Ромодановский, понятно, с каким чувством глубочайшего презрения смотрели они на этих нововыпеченных и доморощенных европейцев, которые, по непривычке, путались ногами в шпаге, роняли из-под мышки свои кораблики, подходя к дамам к ручке, наступали им на ноги, как попугаи, употребляли без толку иностранные слова, любезность заменяли грубым и наглым волокитством и – могло быть! – иное платье надевали на себя задом наперед. В другом уже виде, но и теперь еще заметен у нас этот мнимый, искаженный европеизм, эти формы без идеи, эта вежливость без уважения к себе и другим, эта любезность без эстетичности, это франтовство и львинство без изящности: знаменитый Иван Александрович Хлестаков, прославленный Гоголем, есть один из типов известного рода европейцев нашего времени. Наши галломаны, англоманы, львы, онагры, петиметры, агрономы, комфортисты – так и просятся в комедию Гоголя – кто рассуждать с Анною Андреевною о столичной жизни и обращении с посланниками и министрами, кто рассуждать с почтмейстером Шпекиным и с судьею Ляпкиным-Тяпкиным о политических отношениях Франции и Турции к России. Вследствие же реформы Петра Великого, гениальный ум Ломоносова является в поэзии таким бесплодным и риторическим и, за исключением Крылова, до Пушкина литература наша является рабски-подражательною, бесцветною и не имеющею никакого интереса для иностранцев. Да, всё это правда, но только за всё это Петра так же нелепо обвинять, как и врача, который, чтобы вылечить человека от горячки, сперва ослабляет и истощает его до последней крайности кровопусканиями, а выздоравливающего мучает строгою диетою. Вопрос не в том, что Петр сделал нас полуевропейцами и полурусскими, а следовательно, и не европейцами и не русскими: вопрос в том, навсегда ли должны мы остаться в этом бесхарактерном состоянии? Если не навсегда, если нам суждено сделаться европейскими русскими и русскими европейцами, – то не упрекать Петра, а удивляться должно нам, как он мог совершить такое неслыханное от начала мира, такое исполинское дело! Итак, вопрос заключается в слове «будем ли», – и мы смело и свободно можем отвечать на него, что не только будем, но уже и становимся европейскими русскими и русскими европейцами, и становимся со времен царствования Екатерины II, и со дня на день преуспеваем в этом в настоящее время. Мы уж теперь ученики, но не сеиды{65} европеизма, мы уже не хотим быть ни французами, ни англичанами, ни немцами, но хотим быть русскими в европейском духе. Это сознание проникает во все сферы нашей деятельности, и резко высказалось в литературе с появлением Пушкина – таланта великого, самостоятельного, вполне национального. Что же до того, что и теперь не совершился и долго не совершится окончательно великий акт полного проникновения нашей народности европеизмом – это доказывает только то, что Петр в тридцать лет совершил дело, которое дает работу целым векам. Оттого он и исполин между исполинами, гений между гениями, царь между царями. Самому Наполеону есть соперник в древности – Юлий Цезарь: нашему Петру от начала мира до сего дня не было ни соперников, ни образцов; он подобен и равен только самому себе. И его великое дело совершено безусловным принятием форм и слов: форма не всегда идея, но часто ведет за собою и идею; слово не всегда дело, но часто ведет за собою дело. Литература наша началась формою без мысли, вышла не из народного духа, а из чистого подражания, и, однако ж, мы не должны презирать нашей подражательной литературы: без нее мы не имели бы Пушкина. От литературы можно сделать посылку и ко всему прочему. Солдаты Петра Великого не понимали, для чего их учат маршировать и выкидывать артикулы; в этом случае они бессмысленно повиновались отцам-командирам – и что же! – результатом их бессмысленного повиновения и обезьянского передразниванья заморских солдат были – взятие Азова, победы под Лесным и Полтавою, завоевание прибалтийских шведских областей. Первые наши светские люди ужасали своим татаризмом европейские общества, но скоро явились у нас люди, которые могли быть их украшением и удивляли самих парижан своею любезностию и хорошим тоном.
Построение Петербурга тоже ставится многими в упрек его великому основателю. Говорят: на краю огромного государства, на болотах, в ужасном климате, много погублено работников, многие насильно заставлены строиться и пр. Все это не без основания, но вопрос в том: было ли это необходимо, и можно ли было поступить иначе? Петр должен был оставить Москву – там шипели против него бороды; ему нужно было отвести безопасный приют европеизму, сделать этого гостя семейным, своим человеком, чтобы незаметно и тихо мог он действовать на Россию и быть громовым отводом для невежества и изуверства. Для такого приюта ему нужна была почва совершенно новая, без преданий, где бы его русские очутились совершенно в новой сфере и на могли бы сами собою не измениться в обычаях и привычках жизни. Ему нужно было свести их с иностранцами и связать с ними и службою, и торговлею, и согражданством, поставить их с ними в беспрестанное соприкосновение. Для этого была необходима завоеванная земля, которая могла б быть отечеством и для иностранцев, которых невозможно было бы в большем числе переманить в Москву, и для русских, которые только вначале неохотно селились там, но потом, увидев там центр правительства, тянулись туда, как железо к магниту. Где же могло быть лучшее для этого место, как не в «отбитом у шведа крае»? А великая идея создать флот и положить начало заграничной торговле не чрез посредство иностранцев, как в Архангельске, а прямо, собственною деятельностию, и не с одними англичанами, но со всем земным шаром? – Где же лучшее для этого место, как не при четверном устье Невы? Стоит только обратить внимание на важность Кронштадта для Петербурга, чтобы увидеть, как гениальны и непогрешительны соображения Петра Великого. Почему бы ему было не перенести столицу на берега Черного или Азовского моря? Потому, что ему, кроме флота и заграничной торговли, море нужно было и для успехов европеизма от соседства с европейским народом. Азовское или Черное море сблизило бы нас с татарами, калмыками, черкесами и турками, а не с европейцами. Для Одессы важно соседство Турции, в которую она отпускает огромные количества пшеницы; но оно не было бы важно для Петербурга, ибо Одесса только портовой и торговый город, а Петербург еще и столица сверх того. И мысль Петра оправдалась делом: Москва бесспорно имеет свое значение для России, но Петербург истинно европейская столица России, и Москва только тогда сравнится с ним, когда примет его в себя, Петербург для России – биржа европеизма, из которой европеизм разносится по России. Всякое удобство, всякий шаг к цивилизации делается у нас через Петербург. Он окно и дверь в Европу. Борода в нем не колет глаз только на извозчицких санках или дрожках.
Что касается до жертв, с какими построен Петербург – они искупляются необходимостию и результатом. Петр своими делами писал историю, а не роман; он действовал как царь, а не как семьянин. Вся реформа его была тяжким испытанием для народа, Годиною трудною и грозною. Но когда же и где же великие перевороты совершались тихо и без тяготы для современников?.. Разве легок был для России славный двенадцатый год? Но неужели поэтому мы должны бранить его, а не гордиться им?.. Спокойных государств только два в мире – Китай и Япония; но лучшее, что производит первый, это чай, а вторая, кажется – лак: больше о них нечего сказать. Осина ломится и сокрушается ветром; дуб мужает и крепнет в бурях.
…Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала гением Петра.
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель: не один
Урок нежданный и кровавый
Задал ей шведский паладин.
Но в искупленьях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат{66}.
Да, тяжело было народу с печей и полатей своих выйти на такую работу и борьбу. Он не виноват был, что вырос не учась, и взрослому ему не под силу показалось садиться за указку. Но худшее, что было в его положении, – это то, что он не мог понять ни смысла, ни цели, ни пользы перемен, которым подвергала его железная, несокрушимая воля царя-исполина. Здесь мы почитаем приличным выписать, или, лучше сказать, украсить нашу статью выпискою красноречивых строк о Петре Великом одного из русских ученых:[6]
Чего ж недоставало русскому народу? – Преобразования! Его недоставало для XVII века! Явился царь с горящей мыслию в очах, с отважной Думой на челе и с громоносным словом власти! Он страшный кинул взор на царствующий град, сурово посмотрел на даль прошедшего, и двинул царство от него. Что ж не понравилось ему в наследии предков? Что возмутило Петра в творении его отцов? Но это тайна души великой, глубокая тайна гения! Мы видели только внешнее этого духа, который, как грозовое облако, прошел над русскою землею. Мы видели, как он сочувствовал Иоанну Грозному, как благоговел пред кардиналом Ришелье, как не терпел византийского двора, его роскошества и лени, его ханжей и лицемеров. Такое грозное соединение стихий в душе смертного, рожденного повелевать и царствовать! И к этому огненному началу нравственной его жизни присоединилось глубочайшее сознание собственных сил. Посланник неба, самодержавный смертный, решительно рожденный для преобразований! В каком бы он веке ни родился, в каком бы народе ни воспитался, он всегда и везде был бы преобразователем. Это его природа! Если бы он был современным древнему Язону, его постигла б участь божественного Иракла. Он был бы слишком тяжел для легкой греческой Армады. Но провидение знало, где произвести на свет необычайного смертного. Только русский корабль мог сдержать такого страшного пассажира! Только русское море могло носить на хребте своем столь отважного мореходца! Только Россия могла не треснуть от этого духа, который напрягал ее, чтоб уравнять ее силы с своею исполинскою мощию! Дивное явление! От сложения мира не бывало такого государя! Говорят, что крутость его ума и воли происходила оттого, что он не получил надлежащего воспитания; но, боже мой, какая наука могла огранить эту адамантовую душу, какое воспитание могло смягчить эти несокрушимые нервы ума, эти железные мышцы воли? Если природа должна была уступить ему, то что ж могла сделать из него наука? Какой немец мог быть его детоводцем, какой француз учителем? И природа и науки отступились, когда этот великий дух помчал русскую жизнь по открытому морю всемирной истории! Петр Великий не верил слабостям человеческой природы: только на смертном одре почувствовал, что и он смертный: «Из меня можно познать, сколь бедное творение есть человек», – произнес он в смертных страданиях! Таков был Петр Великий! Ему нужно было совершить преобразование. И какое преобразование! От конечностей тела до последнего убежища человеческой мысли! Он бритвой бреет бороды и топором рубит невежество. Тысячи стрелецких голов падают на Преображенском поле! Ни даже крестный ход царствующего града не мог смягчить его правосудия! (стр. 60–61). …Преобразователь в течение всей своей жизни хранил в себе тайное сознание, что не одно рождение возвело его на престол, но сила высшая призвала его царствовать над народами! Он чувствовал, что не кровь, а дух должен ему предшествовать. Он отверг сына и возжелал оставить по себе достойнейшего. Но великий человек не приобщился нашим слабостям! Он не знал, что мы и кровь и плоть. Он был велик и силен, а мы родились и малы и худы, нам нужны были общие уставы человечества! Петру Великому не нравилось наше древнее государственное устройство. Государева боярская дума должна была уступить место сенату; областные приказы ландратам и ландрихтерам. Ему не нравились и паши целовальники, наши дьяки и подьячие. Он желал бы посадить на их место пленных шведов, секретарей и шрейберов цесарской службы. Ему не нравилось прошедшее России. Но все эти перемены ничто в сравнении с преобразованием государственной службы. Сам, начав с солдата гвардии, он прошел медленно по лестнице подчинения и завещал ее своим подданным. А что кормление прежнее, что царский хлеб и соль? В поте лица ели их слуги Петра Великого. Нигде он не был так грозен своим правосудием, как против дармоедов, мирских едух и казнокрадов. Не уважая частной собственности, когда думал об отечестве, за каждую копейку, излишне взятую сборщиком податей или переданную комиссионером торгашу, он был неумолим для виновного (стр. 61–62).
Да, тут народу было от чего призадуматься, было от чего вспоминать с умилением о простодушной старине и поэтизировать ее в элегических обращениях к новому и старому времени, вроде следующего, которым начинается одна сказка, вероятно, сложенная в ту эпоху.
Соизвольте выслушать, люди добрые, слово вестное, приголубьте речью лебединого словеса немудрые, как в старые годы, прежние, жили люди Старые. А и то-то, родимые, были веки мудрые, веки мудрые, народ все православный, живали старики не по-нашему, не по-нашему, по-заморскому, а по-своему, православному. А житье-то, а житье-то было все привольное да раздольное. Вставали раным раненько, с утренней зарей, умывались ключевой водой, со белой росой, молились всем святым и угодникам, кланялись всем родным от востока до запада; выходили на красен крылец со решеточкой, созывали слуг верных на добры дела. Старики суд рядили, молодые слушали; старики придумывали крепкие думушки, молодые бывали во посылушках. Молодые молодицы правили домком, красные девицы завивали венки на Семик-день, старые старушки судили, рядили и сказки сказывали. Бывали радости великие на велик день, бывали беды со кручинами на велико сиротство. А что было, то былью поросло, а что будет, то будет не по-старому, а по-новому{67}.
И хорошо! Как красно ни рассказывайте, как сладко ни пойте, а, право, не соблазните нас этим привольным и раздольным житьем. Гулянья, театры, балы и маскарады мы будем предпочитать завиванию венков на Семик-день. Что до раннего вставанья – дело не в том, чтобы раньше встать, а чтоб недаром встать; кому нечего делать, тот хорошо сделает, если подольше поспит. Мы не только не кланяемся родным заочно на все четыре стороны, но и встретившись с ними, если наше родство с ними заключается только в крови, а не в любви и духе. Молодые люди бывают и у нас «во посылочках» у старых, но зато и старые бывают «во посылочках» у молодых: ибо право начальства принадлежит у нас не старейшему, но достойнейшему, а достоинство мы измеряем не сединою, а умом, талантом и заслугою. На посылках у Суворова бывали не одни молодые офицеры, но и генералы, вдвое старше его летами. Да, мы не можем без улыбки сожаления слушать эти жалобные похвалы доброму старому времени; но мы понимаем, что простодушный народ тогдашний по-своему был прав. Скажем же ему от всего сердца: вечная память и царство небесное! Своими страданиями и тяжким терпением искупил он наше счастие и наше величие. Над гробами исторического кладбища не должно быть ни проклятий, ни непристойного смеха, ни ненависти, ни кощунства, но любовь и грустная, благоговейная дума…