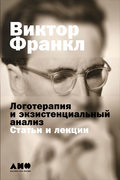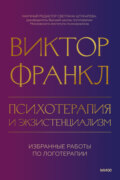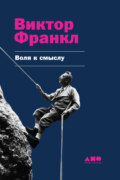Виктор Франкл
Доктор и душа: Логотерапия и экзистенциальный анализ
Принцип удовольствия и выравнивание потенциалов
До сих пор мы обсуждали смысл с точки зрения мира в целом, теперь же вернемся к вопросу в той форме, как ставит его пациент: чаще всего речь идет о смысле одной отдельной жизни, жизни этого пациента. Прежде всего следует обратить внимание на характерную позицию, которую занимают в этом вопросе многие пациенты, с неизбежностью ударяясь тем самым в моральный нигилизм. Пациент попросту утверждает, что весь смысл жизни сводится к удовольствию. Он строит аргументацию на подразумеваемом «факте»: все, что люди делают, в конечном счете определяется стремлением к удовольствию. Теория, согласно которой всей душевной жизнью управляет принцип удовольствия, как известно, утверждается и психоанализом: принцип реальности не противостоит принципу удовольствия, но лишь продолжает его и ему подыгрывает. И тем более он состоит на службе принципа удовольствия, что представляет собой попросту его «модификацию», «также нацеленную на удовольствие»{25}. Мы же считаем принцип удовольствия искусственным порождением психологии. Удовольствие – не цель наших устремлений, но последствие их осуществления. Кант давным-давно разъяснил это. Обсуждая эвдемонизм, Шелер заявил, что удовольствие не стоит перед нами как цель этического поступка – скорее этическому поступку сопутствует удовольствие. Конечно, в определенных обстоятельствах удовольствие представляет собой непосредственную цель волевого акта. Но помимо таких исключительных случаев теория, отстаивающая принцип удовольствия, упускает из виду лежащий в основе любой душевной деятельности вопрос об интенции. Как правило, человек не хочет «удовольствия», он хочет того, что он хочет. У человеческой воли устремлений множество, и цели ее многообразны, в то время как удовольствие всегда было бы одинаково вне зависимости от того, насколько поведение человека соответствует ценностям или им противоречит. Отсюда ясно, что, оперируя принципом удовольствия, мы нивелируем любое целеполагание, поскольку с такой точки зрения будет все равно, что именно творит человек. Благотворительность можно будет приравнять к обжорству: потратившись на благотворительность, человек может столь же успешно устранить какое-то неудовольствие, как и накупив себе деликатесов. В действительности сострадательное чувство уже обладает смыслом, прежде чем перейдет в действие, которое в такой теории служит лишь негативной цели устранить неудовольствие, поскольку можно себе представить, что одно и то же положение, которое в одном человеке возбуждает сострадание, в другом спровоцирует садистское злорадство, то есть даже доставит ему удовольствие.
На самом деле очень мало что в жизни определяется удовольствием или неудовольствием. Зрители идут в театр и на трагедию, и на комедию – им важно содержание, качество пьесы. И никто ведь не решится утверждать, будто те горестные чувства, которые пробуждаются в душе зрителя при виде трагических событий на сцене, и составляют основную цель посещения театра, в противном случае мы должны были бы считать зрителей скрытыми мазохистами. Утверждение, будто удовольствие является целью всех устремлений, а не итогом лишь некоторых из них, можно опровергнуть, доведя до абсурда: будь это так, Наполеон сражался бы лишь ради удовольствия от победы, то есть ради точно такого же чувства, которое его солдат мог бы получить дешевле – от жратвы, спиртного и шлюх. И в таком случае «конечной целью» последних наполеоновских сражений, его проигранных битв будет неудовольствие, ведь оно столь же неотступно следует за поражением, как удовольствие – за победой.
Если свести весь смысл жизни к удовольствию, то конечная цель жизни окажется бессмысленной. Если бы смыслом жизни было удовольствие, жизнь лишилась бы смысла. Ведь что такое, по сути, удовольствие? Определенное состояние. Материалист – обычно гедонизм идет рука об руку с материализмом – сказал бы даже, что удовольствие – это всего лишь некий процесс в ганглиях мозга. И ради возбуждения этого процесса мы станем жить, что-то переживать, страдать, действовать? Представьте себе приговоренного к смерти, которому в последние часы перед казнью дозволено выбирать себе любые блюда для предсмертной трапезы. Он мог бы усомниться, есть ли вообще смысл предаваться перед смертью гастрономическим наслаждениям. Не все ли равно, коли организму суждено через два часа превратиться в труп, произойдет ли в нем сейчас еще раз тот процесс в ганглиях, который мы именуем удовольствием? Но с точки зрения смерти бессмысленна и всякая жизнь, и всякое удовольствие. Это безотрадное мировоззрение, если человек будет вполне последователен, лишит его веры в смысл уже в расцвете жизни: он придет к тому настрою, о котором поведал мне пациент, попавший в клинику после покушения на самоубийство. Рассказывал он об этом так: задумав покончить с собой, он отправился в дальний конец города. Туда удобнее всего было бы поехать на такси, «но я подумал, не лучше ли сэкономить пару шиллингов – и сам над собой посмеялся: надо же, перед смертью хочу еще сберечь пару монет».
Если кого-то сама жизнь еще не убедила, что мы являемся на этот свет отнюдь не ради удовольствия, то стоит обратиться к статистическим данным русского психолога-экспериментатора, который доказал, что в среднем человек переживает за день гораздо больше неприятных чувств, нежели приятных. А как мало мы учитываем принцип удовольствия не только в теории, но и на практике, показывает ежедневный опыт: если на вопрос, почему он не делает того-то и того-то, что нам кажется разумным, человек ответит, что ему «неохота», «какое, мол, от этого удовольствие», мы едва ли сочтем этот ответ достаточным. Нам сразу же станет ясно, что это вовсе не ответ, поскольку мы не принимаем удовольствие или неудовольствие в качестве аргумента за или против осмысленности какого-либо действия.
И принцип удовольствия все так же мало годился бы в качестве мерила даже в том случае, если бы, согласно формуле Фрейда («По ту сторону принципа удовольствия»), оно проистекало из общего стремления органической материи вернуться к покою неорганики. Таким образом, Фрейд пытался увязать стремление к удовольствию с тем принципом, который он именует стремлением к смерти. По моему мнению, все эти первичные психологические и биологические тенденции можно редуцировать и далее, до универсального принципа выравнивания потенциалов, который приводит к снятию напряжения во всех сферах бытия. Физика излагает нечто подобное в теории энтропии как окончательного состояния Вселенной. Такую «тепловую смерть» можно сопоставить с нирваной как психологический коррелят: снятие любого душевного напряжения путем освобождения от всяческих неприятных ощущений было бы эквивалентом на уровне микрокосмоса этой макрокосмической энтропии, нирвана – это «энтропия, взгляд изнутри». Но принцип выравнивания в свою очередь противоречит «принципу индивидуализации», который пытается представить всякое бытие как индивидуальное бытие, как бытие Другого{26}. Сам факт существования этой оппозиции свидетельствует, что даже поиски самых что ни на есть универсальных принципов, установление каких бы то ни было космических законов ничего не решают в этических вопросах поведения, ибо объективное не может быть обязующим субъективно (для субъекта). Кто заставит нас отождествлять себя со всеми этими принципами и тенденциями? Проблема начинается уже с вопроса, подчиняться ли таким тенденциям, даже если мы различаем их в нашем собственном душевном существовании. Вполне можно себе представить, что задача каждого состоит именно в борьбе с господством такого рода и внешних, и внутренних сил.
Возможно, все мы благодаря одностороннему натуралистическому образованию прониклись избыточным уважением к данным точных и естественных наук, к той картине мира, которую рисует физика. В самом ли деле нам следует опасаться тепловой смерти или «гибели мира» до такой степени, что заключительная катастрофа космических масштабов лишит смысла и наши труды, и усилия последующих поколений? Не учит ли нас «внутренний опыт», живое, не окрашенное теорией переживание, что, к примеру, самоценная радость при виде красивого заката как-то «реальнее» астрономических расчетов предполагаемого момента, когда Земля рухнет на Солнце? Не дано ли нам нечто непосредственно, как самопознание, как самоочевидность нашего человеческого бытия – нашего бытия-в-ответственности? «Ближе всего нам соведома совесть», – сказал когда-то кто-то, и никакая теория физиологической «сущности» того или иного переживания, никакие разъяснения, что, мол, радость – это определенным образом выстроенный танец молекул или там атомов или электронов в ганглиях головного мозга, не будут для нас столь безусловны и убедительны, как ощущение человека в момент переживания творческого наслаждения или счастья чистой любви: ему «соведомо», что жизнь исполнена смысла.
Но радость наполняет жизнь в том случае, если сама она имеет смысл. Собственный смысл радости не может заключаться в ней самой, он непременно лежит вне ее пределов, ведь радость всегда устремлена к чему-то. Уже Шелер показал, что радость – чувство интенциональное в отличие от просто удовольствия, которое он отнес к не-интенциональным чувствам, к «чувствам-состояниям». Шелер указывает при этом на отличие даже в повседневном словоупотреблении: удовольствие мы получаем «от чего-то», а радуемся «чему-то». Вспомним сформулированное Эрвином Штраусом понятие «презентистского» образа жизни: при таком переживальческом образе жизни человек застревает в состоянии удовольствия (в опьянении), не выбираясь из него в царство объектов, в данном случае – царство ценностей, но истинную радость человек может испытать, лишь когда с эмоциями совпадает ценностная интенция. Отсюда понятно, почему радость сама по себе не может быть самоцелью: как интенция она не может быть направлена сама на себя. Радость – «исполняемая действительность» (Рейер) – лишь в осуществлении ценностно-когнитивных актов, то есть интенциональных актов восприятия ценностей, и может она реализоваться{27}. Прекрасно выразил эту мысль Кьеркегор, сказав, что дверь к счастью открывается наружу. Кто пытается тянуть эту дверь на себя, лишь плотнее закрывает ее. Тот, кто яростно стремится сделаться счастливым, сам себе отрезает путь к счастью. Итак, всякое стремление к счастью, к этой якобы «конечной цели» человеческой жизни, оказывается само по себе невозможным.
Ценность необходимо трансцендентна направленному на нее акту. Она выходит за пределы ценностно-когнитивного акта, который устремляется к ней, подобно тому как объект акта познания заведомо внеположен когнитивному (в узком смысле слова) акту. Феноменология доказала, что трансцендентное качество объекта всегда заведомо присутствует в содержании трансцендентного акта. Если я вижу горящую лампу, вместе с ней мне дано сознание, что лампа находится тут, даже когда я закрываю глаза или поворачиваюсь спиной. «Видеть» означает видеть что-то за пределами глаз. Если бы кто-нибудь вздумал настаивать, что он видит вовсе не внешние вещи, но лишь отражения на сетчатке своего глаза – насквозь ложное утверждение, – то это ложное высказывание отражало бы основную ошибку позитивистов школы Маха, которые методически применяют данные ощущений. На самом деле установка на ощущения как таковые, на ощущения в чистом виде представляет собой вполне определенную и при этом вторичную (производную) точку зрения: это рефлексивная установка, то есть она уместна разве что в научно-психологическом, но никак не в естественном и первичном познании. Теория же познания ничуть не обязана превращаться в теорию психологического познания{28}, ее задача быть именно теорией познания. Можно пойти еще дальше и сказать: заблуждается даже тот человек, который решился бы утверждать, что в очках он видит лишь стекло очков, а не (сквозь и насквозь) сами вещи. Разумеется, можно всецело сосредоточиться на пылинках, пятнышках и других изъянах стекла, но при этом нельзя забывать, что такая сосредоточенность представляет собой фокус внимания именно на изъянах стекол очков: так и фокус на критике познания представляет собой внимание к источникам ошибок познания – истинного познания! – то есть фокус на источниках ошибок того познания, которое, даже с учетом этих возможных источников ошибок, обладает потенциальной истинностью.
Признание реальности объекта заведомо предполагает, что я признаю его реальность независимо от того, имел ли я или вообще кто-то фактическую возможность его познать. То же самое верно и по отношению к объектам ценностного познания. Это можно подтвердить с помощью такого примера: представим себе, некий мужчина заметил, что эстетическое совершенство партнерши «дано» ему лишь до тех пор, пока сохраняется напряженное состояние, в котором он переживает сексуальное возбуждение, когда же возбуждение проходит, каким-то образом исчезает и эта красота. Из этого он делает вывод, что красота представляет собой не реальность, а результат ослепления чувств чувственностью, то есть красота не есть что-то объективное, а существует лишь относительно определенных состояний его организма, в субъективности его половых потребностей. Такой вывод будет неверным. Действительно, определенное субъективное состояние служит предпосылкой для восприятия этих ценностей и определенное расположение духа субъекта служит необходимым средством или методом восприятия ценностей. Но этим не исключается объективность ценностей, напротив, этим она утверждается: эстетические ценности, как и этические, подобно объектам познания нуждаются, дабы быть постигнутыми, в адекватных актах, и в этих интенциональных актах раскрывается трансцендентность объектов, то есть их объективность. И тут ничего не меняет факт, который мы уже обсуждали, что наш образ мира как таковой позволяет нам различить лишь какой-то аспект мира, небольшую его часть, то есть и перспектива у нас ограничена. Возможно, так в целом и обстоит дело: всякий человеческий долг дан человеку лишь в конкретике, в том, что он «должен» сделать «здесь и сейчас». Ценности проявляются в требованиях дня, в личных задачах: стоящие за этими задачами ценности могут, по-видимому, проступать лишь в интенции этих заданий. Не исключено, что то целое, которому всякое конкретное долженствование частично открыто, никогда не будет полностью понятно отдельному человеку, связанному перспективой конкретного{29}.
Каждое человеческое существо является чем-то уникальным, и каждая жизненная ситуация в чем-то неповторима. С этой уникальностью и неповторимостью и соотносятся конкретные задачи каждого человека. Итак, отдельный человек в отдельный момент времени может выполнять только одну задачу, но как раз эта уникальность и делает его задание безусловным. Мир мы видим в какой-то относительной перспективе, но каждая точка зрения соответствует единственной в своем роде правильной перспективе. Абсолютная правильность тоже существует – не вопреки, а благодаря относительности частных перспектив.
Субъективизм и релятивизм
Еще одно замечание следует сделать по поводу объективности смысла – она также не исключает субъективности: смысл субъективен постольку, поскольку нет единого смысла для всех, но для каждого он свой, и в то же время смысл, о которым мы все время говорим, не может быть только субъективным{30}, он не может быть в чистом виде выражением или отражением моего бытия – как хотели бы убедить нас субъективизм{31} и релятивизм.
И если смысл не только субъективен, но и относителен, это значит, что он находится в определенных отношениях с человеком и с ситуацией, в которой пребывает и развивается этот человек. В таком понимании смысл ситуации подлинно относителен: он соотносится с уникальной и неповторимой ситуацией.
Человек должен ухватить и осознать смысл ситуации, воспринять его, признать и реализовать, то есть воплотить в реальность. Смысл, в силу своей привязанности к ситуации, тоже неповторим и уникален, и эта уникальность «единственного, что нужно» приводит к транссубъективности, то есть смысл не полагается нами, но есть данность, пусть даже наше восприятие и осуществление в огромной мере подвластны субъективности человеческого сознания и совести. Погрешность человеческого сознания и совести не подрывает транссубъективность зафиксированного человеческим сознанием бытия и зафиксированного человеческой совестью долга. Тот, кто убежден в такой транссубъективности, убежден также, что лишь заблудшее сознание или заблудшая совесть могут побуждать к убийству или самоубийству. Это убеждение позволяет также врачу в исключительных случаях ручаться своей совестью за свое мировоззрение, однако даже тут он должен принимать во внимание погрешность и своей совести, и совести пациента.
Совесть принадлежит к числу сугубо человеческих феноменов. Сформулируем определение так: совесть – это интуитивная способность находить неповторимый и уникальный смысл каждой ситуации. Иными словами, совесть – орган смысла.
Но совесть – способность не только человеческая, но и чересчур человеческая, то есть она причастна человеческой природе и несет на себе его признак – ограниченность. Совесть может и обмануть человека. Более того: до последнего вздоха человек не будет уверен, осуществил ли он смысл своей жизни или сам себя обманывал: ignoramus et ignorabimus[19].
Но после Петера Вуста «неопределенность и дерзание» ходят рука об руку, и даже если совесть оставляет человека без ответа, обрел ли он, постиг ли и воплотил смысл своей жизни, эта «неопределенность» не избавляет его от «дерзания» следовать своей совести и прислушиваться прямо сейчас к ее голосу.
«Неопределенность» влечет за собой не только «дерзание», но и смирение. Поскольку мы вплоть до смертного часа не будем знать, не поддалась ли наша совесть, наш орган смысла, самообману, у нас есть все причины прислушиваться и к совести другого. Смирение подразумевает толерантность, но толерантность – это отнюдь не безразличие, ведь уважать веру инакомыслящего вовсе не значит идентифицировать себя с иной верой.
Никто не станет отрицать, что в каких-то обстоятельствах человек не может постичь смысл, и все же должен его обозначить и истолковать{32}. Это опять-таки не значит, что подобное толкование происходит наугад. Обладает ли человек свободой толкования, несет ли ответственность за правильность истолкования? Существует ли на каждый вопрос единственный ответ, для каждой проблемы – только одно решение, правильное, в каждой жизни, в каждой ситуации – лишь один смысл, истинный? Таблице Роршаха придается смысл, и из субъективности этого смыслополагания делается вывод о субъекте, участвующем в тесте Роршаха, его можно «разоблачить», но в жизни мы заняты не смыслополаганием, а поисками смысла, мы не придаем чему-то смысл, но его ищем (находим, а не изобретаем, поскольку смысл жизни невозможно изобрести, его можно лишь открыть). Приводимый ниже эпизод поможет понять, как, вопреки присущей толкованию субъективности, смыслу, к которому устремляется толкование, придается все же толика транссубъективности. Однажды в США после доклада мне подали записку с вопросом: «Как в вашей теории определяется 600?» Прочитав ее, модератор дискуссии хотел тут же отложить ее в сторону и заметил, обращаясь ко мне: «Чушь: "Как в вашей теории определяется 600"». Но я взял в руки записку, повертел ее и обнаружил, что модератор (в скобках заметим – богослов по профессии) ошибся: вопрос был написан полупечатными буквами, и это было английское слово GOD, которое действительно с трудом можно было отличить от числа 600. Эта случайная двусмысленность могла послужить проективным тестом, результаты которого, учитывая, что один из нас был богословом, а другой – психиатром, все же кажутся парадоксальными. Я не упустил случая, читая лекции в Венском университете, подсунуть эту записку студентам из США, и голоса разделились пополам: девять человек прочли «600», девять – «GOD», а четверо не могли выбрать между двумя истолкованиями. Причем я бы хотел напомнить, что эти истолкования не равноценны, лишь одно из них подразумевается и требуется: человек, задавший вопрос, безусловно имел в виду GOD, и правильно понимал этот вопрос лишь тот, кто вычитывал (а не вчитывал) слово «Бог». И как бы человек ни полагался на свое сознание и свою совесть, обдумывая смысл конкретной ситуации, и в какой бы неопределенности ни пребывал (вплоть до последнего вздоха), гадая, не ошиблась ли его совесть в конкретной ситуации, ибо человеку свойственно заблуждаться, он все же должен принимать на себя риск заблуждения и признаваться в своей ограниченности, то есть – в своей человеческой природе. Повторим слова Гордона Олпорта: «We can be at one and the same time half-sure and whole-»[20]{33}.
Как человеческая свобода имеет предел, и тем самым человек отнюдь не всемогущ, так и человеческая ответственность имеет свой предел: человек не всеведущ, но вынужден решать «по совести».
Чем направляется совесть, когда ищет уникальный смысл ситуации или говорит «да» либо «нет» какой-то универсальной ценности? Это происходит, видимо, на основе того, что мы назвали волей к жизни, того, что Джеймс Крамбо и Леонард Махолик назвали собственно человеческой способностью находить смыслообразы не только в действительности, но и в возможности{34}.
Вертгеймер сформулировал так: «Ситуация семь плюс семь равно… – это система с лакуной, пробелом. Пробел можно заполнить разными способами. Один вариант – "четырнадцать" – соответствует ситуации, подходит к этому пробелу, что структурно определяется ситуацией, пустым местом, функцией его по отношению к целому. Другие варианты, такие как, например, "пятнадцать", не подходят. Они неправильны. Вот что такое требования ситуации или востребованность. Эти требования – объективные качества»{35}.
В то время как смысл связан с неповторимой и уникальной ситуацией, существуют сверх того смысловые универсалии, которые связаны с человеческой природой как таковой, и эти всеохватывающие потенциальные смыслы и есть то, что мы именуем ценностями. Более или менее общепризнанные ценности, моральные и этические принципы, выкристаллизовавшиеся в человеческом обществе в ходе его истории, дают человеку определенное подспорье, но за это ему приходится уплатить определенную цену: он сталкивается с конфликтом. Собственно, речь идет не о конфликте совести – такого в действительности не существует, ибо то, что говорит человеку совесть, всегда однозначно. Конфликт возникает между ценностями, поскольку в противоположность уникальному и неповторимому конкретному смыслу ситуации (а смысл всегда существует применительно не к человеку, а к ситуации, о чем я и пытаюсь напомнить), ценности по определению суть абстрактные универсальные смыслы. Как таковые они не подгоняются под уникальных людей с их неповторимыми ситуациями, но их значение охватывает более широкие ареалы повторяющихся, типичных ситуаций, и эти ареалы накладываются друг на друга. Поэтому складываются ситуации, в которых человек стоит перед ценностным выбором, перед выбором из взаимоисключающих принципов. И чтобы этот выбор сделать не своевольно, приходится вновь обращаться к совести, к совести, которая одна может гарантировать, что человек принимает решение свободно, однако не своевольно, а ответственно. Разумеется, человек свободен и по отношению к своей совести, но эта свобода заключается исключительно в выборе между двумя возможностями, а именно: послушаться своей совести или пренебречь ею. Если человек систематически и последовательно подавляет и удушает свою совесть, то доходит либо до западного конформизма, либо до восточного тоталитаризма – в зависимости от того, предлагаются ли ему общепринятые в социуме «ценности» или же навязываются силой.
Нет полной уверенности в том, что конфликт лежит в самой природе ценностей: возможно, взаимоналожения разных областей ценностей – лишь видимость, они происходят лишь в результате проекции, то есть утраты одного измерения. Лишь когда мы выносим за скобки иерархические различия между ценностями, кажется, будто они накладываются друг на друга и сталкиваются в области взаимного пересечения, словно тени двух шаров, спроецированные из трехмерного пространства на плоскость, – нам лишь кажется, будто шары заходят друг на друга.