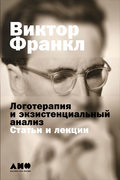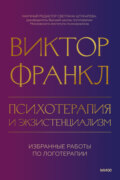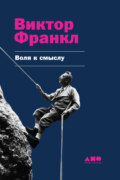Виктор Франкл
Доктор и душа: Логотерапия и экзистенциальный анализ
Чтобы прояснить эти отличия примером, вообразим молодого человека, выросшего в бедности. Не желая удовлетвориться «адаптацией» к этим стесненным и жалким условиям, он навязывает свою личную волю окружающему миру и так «преображает» свою жизнь, что получает, скажем, возможность учиться и получить более почтенную профессию. Допустим далее, что он по своим склонностям и способностям займется медициной и станет врачом и ему представится соблазнительный шанс занять выгодное с финансовой точки зрения положение, так что он сможет спокойно планировать всю свою жизнь и сделаться богачом. Но предположим также, что талант этого человека принадлежит специфической области медицинской профессии, а выгодная должность не оставляет ему шанса работать в этой области. В таком случае при счастливом внешне образе жизни он лишится внутреннего осуществления, и, как бы он ни преуспевал, будь у него собственный дом – полная чаша, и дорогой автомобиль, и прочие роскошные аксессуары, как только ему случится задуматься достаточно глубоко, он увидит, что его жизнь отчего-то пошла наперекосяк. Столкнувшись с гештальтом другого человека, который отказался от внешнего богатства и многих радостей жизни, оставшись верным своему истинному призванию, он вынужден будет сказать себе словами Геббеля: «Тот, кто я есть, приветствует с горечью того, кем я мог быть». С другой стороны, можно вполне себе представить, как наш воображаемый молодой человек отказывается от блистательной карьеры, обходится без всех преимуществ, какие она сулила, и целиком посвящает себя избранной профессии. Смысл его жизни и внутренняя реализация будут обеспечены благодаря тому, что он займется тем, что может сделать именно он. С этой точки зрения скромный сельский врач, укоренившийся в своем малом мирке, покажется нам более великим, чем многие его пристроившиеся в столице коллеги. Так же и теоретик, который трудится на дальних форпостах науки, окажется выше многих практиков, которые «в самой сердцевине жизни» ведут борьбу со смертью, ибо на фронте науки, там, где она заводит или продолжает борьбу с неведомым, теоретик держит пусть и небольшой участок, но совершает на нем нечто уникальное и незаменимое, и никто не мог бы вместо него восполнить эти личные достижения. Он нашел свое место, заполнил его и тем самым обрел внутреннюю полноту.
Так дедуктивным методом мы, видимо, обнаружили пробел в научном пространстве психотерапии: нам удалось выявить лакуну, которая нуждается в заполнении. Психотерапия, как мы доказали, в ее нынешнем состоянии должна быть дополнена психотерапевтической процедурой, так сказать, по ту сторону Эдипова комплекса и чувства неполноценности или вообще за пределами динамики аффектов. Нам недостает той психотерапии, которая заглянет в подоплеку динамики аффектов, которая за психическим расстройством невротика разглядит его духовные страдания. Итак, речь идет о психотерапии «духовного».
Час рождения психотерапии пробил тогда, когда за телесными симптомами попытались различить душевные причины, то есть выяснить психогенез; но теперь есть возможность совершить последний шаг и различить за психогенезом, поверх динамики аффектов в неврозе человека, его духовную нужду, и это станет исходной точкой для помощи. При этом мы не упускаем из виду, что подобная установка врача сопряжена с проблемами, ведь в таком случае у врача возникает необходимость занять определенную ценностную позицию. В тот момент, когда врач ступает на почву «психотерапии в духовном смысле», его собственный духовный склад и его конкретное мировоззрение становятся однозначно ясными, в то время как прежде, в традиционной медицине, они оставались разве что подразумеваемыми, поскольку в любом виде медицины всегда на первом месте и по умолчанию находится безусловная ценность здоровья, и признание этой ценности как главного ориентира всякого целительства не вызывает проблем, поскольку врач всегда может сослаться на выданный ему обществом мандат, который как раз и предписывает трудиться во благо здоровья.
Напротив, предлагаемое здесь распространение психотерапии, вовлечение духовной сферы в лечение душевных заболеваний, чревато трудностями и опасностями. О них, в особенности об угрозе навязывания собственного мировоззрения врача пациенту, которого он лечит, нам еще представится случай поговорить, вопрос же, можно ли вовсе избежать подобных издержек, следует рассматривать одновременно с фундаментальным вопросом о том, возможно ли вообще предлагаемое нами расширение психотерапии. До тех пор пока этот вопрос остается открытым, сам принцип «духовной психотерапии» остается лишь благим пожеланием. Этот вид психотерапии утвердится или падет в зависимости от того, удастся ли нам от установления ее теоретической необходимости перейти к доказательству ее возможности и привести фундаментальные доводы в пользу вовлечения духовного (а не только душевного) в сферу медицины. И чтобы наша критика «ортодоксальной» психотерапии не выходила за разумные пределы, нужно показать, какое место мы в ней отводим ценностным суждениям. Но к этому вопросу мы подойдем лишь в заключительной главе. Сейчас мы указали на присутствие ценностных суждений в любом медицинском акте и попробуем заняться вопросом о необходимости таких суждений – не о теоретической их необходимости, поскольку о ней уже сказано выше, а о практической.
На самом деле эмпирическими фактами подтверждается наш дедуктивный вывод: именно духовного измерения психотерапии и не хватает. Психотерапевт ежедневно, ежечасно в своей повседневной практике, в конкретной ситуации общения с пациентом сталкивается с мировоззренческими вопросами. И перед лицом этих вопросов все то снаряжение, которым оснастила его «обычная» психотерапия, оказывается бессильным.
Экзистенциальный вакуум и ноогенный невроз
Задача врача – помочь пациенту обрести мировоззрение и систему ценностей, собственное мировоззрение и собственную систему ценностей! – ныне тем более важна, что около 20 % неврозов вызваны и обусловлены чувством утраты смысла, «экзистенциальным вакуумом». Человеку, в отличие от животного, инстинкт не подсказывает, что нужно делать, а ныне не помогают и традиции, и вскоре он уже не сможет разобраться, чего же он сам хочет, а тем более, что он готов делать и чего хотят от него другие, то есть человек становится уязвимым для авторитарных и тоталитарных вождей и гуру.
Ныне человек приходит к психиатру, усомнившись в смысле своей жизни или вовсе отчаявшись его найти. В словаре логотерапии мы именуем это экзистенциальной фрустрацией. Само по себе это состояние вовсе не патология. Мне известен конкретный случай: пациент, профессор университета, обратился в мою клинику, отчаявшись найти какой бы то ни было смысл бытия. В разговоре с ним выяснилось, что он страдает от эндогенного депрессивного состояния, однако угрызения по поводу смысла жизни одолевают его не в депрессивной фазе, как можно было бы ожидать: в эти периоды ипохондрия занимала его настолько, что о смысле жизни думать было некогда. Лишь в промежутках, в пору благополучия, доходил он до этих угрызений! Иными словами, между духовной нуждой, с одной стороны и душевной болезнью – с другой в конкретном случае наблюдалась обратная связь: они взаимно исключали друг друга. Фрейд придерживался иного мнения и писал Мари Бонапарт: «В тот момент, когда человек задается вопросом о смысле и ценности жизни, он явно болен»{14}.
Рольф фон Экартсберг с факультета общественных отношений Гарвардского университета одарил нас продолжительным исследованием, которое охватило период в 20 лет. Он изучал 100 выпускников Гарварда, и, как сообщил мне в личной беседе, «25 % вдруг ни с того ни с сего обнаружили в своей жизни "кризис", вызванный вопросом о смысле жизни. Хотя многие из них вполне успешны профессионально (половина занялась бизнесом) и отлично зарабатывают, они все-таки жалуются на отсутствие особой жизненной задачи, деятельности, которая позволила бы им внести свой уникальный и незаменимый вклад. Они взыскуют "призвания", личных, окрыляющих ценностей».
Если считать это неврозом, то это новый тип невроза, который мы в логотерапии именуем ноогенным. В США им уже занимаются в Гарварде и в центре Брэдли в Коламбусе, штат Джорджия. Разрабатываются тесты, чтобы диагностически разграничить ноогенный невроз от психогенного. Джеймс Крамбо и Леонард Махолик подводят итоги своих исследований: «The results of 1151 subjects consistently support Frankl's hypothesis that a new type of neurosis – which he terms noogenic neurosis – is present in the clinics alongside the conventional forms: There is evidence that we are in truth dealing with a new syndrome»[2]{15}.
Когда диагностируется ноогенный невроз, логотерапия предлагает специальный метод как раз для его лечения, а если вопреки показаниям врач отвращается от такого метода, возникает подозрение, что он руководствуется страхом перед собственным экзистенциальным вакуумом.
В отличие от экзистенциального подхода, который требуется в случаях ноогенного невроза, как мы его обозначили, односторонняя психодинамическая или аналитическая психотерапия предлагают пациенту утешение в его «трагической экзистенции» (Альфред Делп), в то время как логотерапия принимает экзистенциальную данность настолько всерьез, что воздерживается сводить ее к психологистически-патологическому псевдообъяснению – это, мол, «всего лишь защитные механизмы, реактивное образование». А как это еще назвать, если не утешением, и притом дешевым, когда врач зачастую – цитирую американского психоаналитика Бертона{16} – сводит страх смерти к страху кастрации и другим с экзистенциальной точки зрения безвредным страхам? Дорого бы я дал за то, чтобы меня терзал страх кастрации, а не жуткий вопрос, мучительное сомнение: смогу ли я некогда, в предсмертный час, сказать, что моя жизнь имела смысл?
Когда появилось понятие ноогенного невроза, горизонты психотерапии расширились, а клиентура отчасти сменилась. Кабинет врача стал местом паломничества для всех отчаявшихся в жизни, усомнившихся в ее смысле. Поскольку «западное человечество ушло от священника к врачу, от душепопечителя к душецелителю», как выразился фон Гебзаттель, у психотерапии появилась и такая наместническая роль.
Но вообще-то ныне ни у кого нет причины жаловаться на недостаток жизненного смысла: достаточно лишь раздвинуть свои горизонты, чтобы заметить: пусть мы наслаждаемся благосостоянием, все остальные живут в нужде, мы радуемся своей свободе, но куда подевалась ответственность за других? Прошло несколько тысячелетий с тех пор, как человечество пришло к вере в Бога, к монотеизму, но где же осознание единого человечества, вера, которую я бы хотел назвать моноантропизмом? Где осознание человеческого единства – единства, которое покрывает все многообразие отличий как в цвете кожи, так и в партийных цветах?
Преодоление психологизаторства
Каждый психотерапевт знает, как часто в ходе лечения возникает вопрос о смысле жизни. И знание, что сомнения пациента, его мировоззренческое отчаяние в смысле жизни развивались с психологической точки зрения так или эдак, мало чем нам поможет. Найдем ли мы душевную причину его духовной нужды в комплексе неполноценности, сведем ли пессимистические настроения пациента к какому-то иному комплексу, на самом деле все подобного рода речи обращены не к пациенту – мимо него. Суть его проблемы затрагивается при этом так же мало, как на приеме у врача, который вовсе не применяет психотерапию, а довольствуется физиотерапевтическими процедурами или медикаментозным лечением. Насколько же мудрее классическое изречение: Medica mente non medicamentis[3].
Итак, вот что от нас в этом смысле требуется: показать, что все врачебные действия такого рода мало чем друг от друга отличаются и все «проходят мимо» пациента, разве что в каждом конкретном случае способы «проходить мимо» подпадают под ту или иную разновидность «научного» или «медицинского» подхода.
И вот что необходимо сделать: выстроить разговор с больным, научиться задавать вопрос и выслушивать ответ, вступать в дискуссию, вести борьбу адекватными средствами, то есть духовным оружием. Вот что нужно нам, или, вернее и важнее, вот чего вправе ждать от нас страдающий неврозом человек: требуется имманентная критика всех его философских аргументов. Нужно отважиться на честный бой, выставив против его доводов контраргументы и запретив себе прибегать к удобной чужеродной аргументации, которая заимствует свои тезисы из области биологии или социологии, – такие переходы ослабляют имманентную критику, поскольку приходится покидать тот уровень, на котором прозвучал вопрос, то есть духовный уровень. Мы должны оставаться здесь и вести духовную борьбу за духовную позицию, сражаться духовным оружием. Уже сам принцип интеллектуальной или философской честности призывает нас сражаться равным оружием.
Само собой очевидно, что в каких-то случаях полезнее прибегать к неким формам скорой помощи, если пациент не просто сомневается в смысле собственной жизни, но близок к отчаянию и проявляет склонность к суициду. К такого рода первой помощи относится новый метод, который можно было бы назвать «академическим подходом» к проблеме: когда пациент видит, что угнетающее его отчаяние совпадает с основной темой современной экзистенциальной философии, тут же проступает и его духовная потребность, которая также совпадает с духовной потребностью человечества, и он уже может воспринимать свое состояние не как постыдный, с его точки зрения, невроз, но как жертву, которой можно даже гордиться. Да, бывают пациенты, которые в конце концов с облегчением сообщают, что они нашли терзавшую их проблему на такой-то странице такого-то труда по экзистенциальной философии: это дает им возможность эмоционально дистанцироваться от своей проблемы, найдя ей рациональное объяснение.
Врач, получивший соответствующую философскую подготовку, не станет лечить ведущего духовную битву человека транквилизатором, а предпримет попытку с помощью духовноориентированной психотерапии возвратить пациенту связь с духовным началом, обеспечить ему духовный «якорь». Но это применимо именно в тех случаях, когда мы имеем дело с «типично невротическим» мировоззрением. Ведь либо пациент прав в своем пессимизме и тогда мы не правы, пытаясь психотерапевтическими методами бороться с ним (ни в коем случае нельзя отрицать мировоззрение невротика лишь по факту его недуга и считать его заведомо «невротическим»), либо пациент заблуждается и тогда для коррекции его мировоззрения требуется принципиально иной, уж никак не психотерапевтический, метод. Итак, можно сформулировать: когда пациент прав, психотерапия не нужна, ведь нет причины исправлять верное мировоззрение, а когда пациент не прав, психотерапия невозможна, поскольку с помощью психотерапии не удастся исправить неверное мировоззрение. Значит, вся прежняя психотерапия в духовных вопросах недостаточна и, более того, она в них некомпетентна. Как мы уже показали, по отношению к цельной реальности души она недостаточна, по отношению же к автономной духовной реальности – некомпетентна.
Некомпетентность, однако, проявляется не только в попытке лечить психотерапевтическими средствами мировоззрение, но и в поддерживаемой такого рода психотерапией концепции «психопатологического мировоззрения». На самом деле никакой психопатологии мировоззрения не существует и быть не может, поскольку духовное творение как таковое несводимо к психологии уже потому, что духовное и душевное измерения не совпадают. Содержание мировоззренческой картины никогда не удастся полностью свести к душевому состоянию «автора». И тем более нельзя из факта душевного недуга человека, выстраивающего то или иное мировоззрение, делать вывод, что его мировоззрение, эта картина из области духовного, заведомо неправильна. И даже если мы разберемся, как пессимизм, скептицизм или фатализм невротика обусловлены психологически, ни нам, ни пациенту не будет от этого особой пользы. Наша задача – опровергнуть его мировоззрение, лишь потом можно будет перейти к «психогенезу» его идеологии и понять ее с точки зрения индивидуальной истории человека. Итак, не может быть психопатологии и, соответственно, психотерапии мировоззрения, возможны разве что психопатология и психотерапия того, кто имеет это мировоззрение, конкретного человека, в чьей голове оно сложилось. Отсюда следует, что подобная психопатология никогда не получит права судить об истинности или ложности мировоззрения (ср.: Аллерс). Ей не будет дозволено высказываться о каких-либо философских положениях, все ее суждения должны безусловно и полностью ограничиваться личностью конкретного философа. Присущие психопатологии категории «здоровья» и «болезни» применимы только к людям, а не к творению их разума. Психопатологический диагноз не может заменить собой философское доказательство истинности или ложности мировоззрения. Душевное здоровье или душевная болезнь «носителя» какого-либо мировоззрения не доказывает и не опровергает духовную истинность или духовную ошибочность мировоззрения. Ибо дважды два – четыре, даже когда эта истина исходит от шизофреника. Ошибку в счете следует выявлять математически, а не психиатрически: мы же не предполагаем, что паралич непременно приведет к ошибке в счете, скорее уж при ошибке в счете проверим признаки паралича. Итак, для оценки духовного содержания принципиально не имеет значения, каковы его душевные корни, является ли оно итогом болезненных душевных процессов.
В конечном счете во всех этих вопросах мы сталкиваемся с психологизаторством, то есть с псевдонаучным подходом, который предполагает судить о пригодности или непригодности духовного содержания, исходя из его душевных истоков. Эти попытки заведомо обречены на провал, поскольку объективно духовные творения ускользают от такой чужеродной хватки. Нельзя игнорировать полную автономность духовной сферы. Недопустимо оспаривать существование божества на том основании, что вера возникла из страха прачеловека перед непостижимыми силами природы; также из того обстоятельства, что художник страдает душевным недугом или, как мы выражаемся, находится в психотическом эпизоде болезни, нельзя делать вывод о художественной ценности его творчества. И даже если какое-то подлинно духовное достижение человечества или культурное явление позднее, так сказать, вторично было поставлено на службу чужеродным мотивам и интересам, то есть использовано не по назначению, это само по себе не должно ставить под вопрос ценность духовного творения, которым так злоупотребили. Отказывать в изначальной ценности и внутренней значимости творению художника или религиозному опыту в связи с его потенциальным или реальным извращением – значит выплескивать вместе с водой и ребенка. Тот, кто так поступает, подобен человеку, который при виде аиста с изумлением воскликнул: «А я-то считал аистов выдумкой». Если аист присутствует в известном поверье «откуда дети берутся», из этого никак не следует, что птица не принадлежит и реальному миру.
При всем том невозможно, конечно, отрицать связь духовных построений с психологией и даже биологией и социологией: в этом смысле они «обусловлены», однако в этом же смысле не «детерминированы» ими. Вельдер справедливо указывал, что поиски обусловленности духовных построений и культурных феноменов сводятся к указанию «источников ошибок», объяснениям, откуда происходят какие-то преувеличения или та или иная односторонность, но из этих источников никоим образом не происходит сущностное содержание, которое позволило бы позитивно разъяснить духовное явление (всякая попытка такого рода «разъяснений» путает сферу выражения личности со сферой представления объекта). А что до формирования личной картины мира, то уже Шелер установил, что характерологические отличия и индивидуальность человека в целом лишь в той мере затрагивают его картину мира, в какой они влияют на выбор мировоззрения, однако в его содержимое они не вмешиваются. Эти обусловленные элементы мировоззрения Шелер соответственно и именует «элективными», в отличие от «конститутивных». С их помощью мы сумеем разве что понять, почему конкретный человек выбрал именно эту личную манеру воспринимать мир, но никогда не сможем «объяснить» то, что из полноты мира вошло в это индивидуальное и, допускаю, одностороннее мировоззрение. Специфика любого взгляда, способность любого мировоззрения что-то вычленять из целого лишь подчеркивает объективное бытие мира. В конце концов, нам известны источники ошибок в астрономии и обусловленность определенных отклонений при наблюдении, в том числе пресловутое «время реакции наблюдателя», но ведь эти субъективные особенности никого не побуждают усомниться в существовании Сириуса. Хотя бы по соображениям эвристики нам следует твердо занять позицию: психотерапия как таковая непричастна к любым мировоззренческим вопросам, и психопатология со своими категориями «здоровья» и «болезни» не должна судить об истинности и значимости духовного построения. Как только психотерапия пытается выносить свое суждение по этим вопросам, она впадает в грех психологизаторства.
Как было в свое время преодолено психологизаторство в истории философии, так теперь настала пора преодолеть психологизаторство в психотерапии с помощью метода, который мы решили назвать логотерапией. Логотерапии предназначено решать ту задачу, которую мы сформулировали как «психотерапию духовного»: задачу расширить нынешнее узкое представление о психотерапии и заполнить тот зазор, который мы сначала выявили теоретически, а затем подтвердили опытом терапевтической практики. Только логотерапия имеет законное право (при условии, что она воздержится от психологистических уклонений в неадекватную критику) обсуждать по существу духовную нужду душевнобольного человека{17}.
Естественно, логотерапия не призвана вытеснить психотерапию, но должна ее дополнять – и то лишь в определенных случаях. Де-факто эти задачи не новы, и эти методы, по большей части бессознательно, применялись. Мы же хотим определить, где и когда логотерапия может осуществляться де-юре. Ради полной ясности нужно провести методичное рассмотрение и прежде всего отделить элементы логотерапии от психотерапевтических. Притом мы ни на миг не забываем, что эти элементы в терапевтической практике связаны друг с другом живой связью, так сказать, сплавляются воедино в работе с пациентом. Ведь только эвристически можно их разделить, а в реальности предмет психотерапии и логотерапии, душевное и духовное неразрывно связаны в единстве человеческого бытия.
Однако принципиальный подход требует разделять духовное и душевное: они принадлежат к существенно различающимся сферам{18}. Ошибка психологизаторства заключается в произвольном переключении с одного плана на другой. При этом полностью упускается из виду автономия духовного, и это упущение естественным образом ведет к μετάβασις είς αλλο γένος[4]{19}. Избежать этого в сфере психотерапевтического лечения и преодолеть здесь психологизаторство – главная задача и основная обязанность создаваемой нами логотерапии.