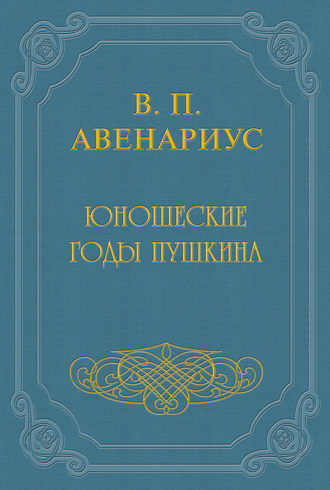
Василий Авенариус
Юношеские годы Пушкина
Четвертый отсутствующий поэт, Батюшков, который еще так недавно представлялся молодому Пушкину недосягаемым идеалом, также предчувствовал его духовное превосходство над собою. Страдая уже в то время первыми приступами своей душевной болезни, Батюшков, прочитав послание Пушкина к Юшкову, судорожно скомкал в кулаке стихи и вскричал:
– О, как стал писать этот злодей!
Он не мог простить начинающему автору его свежих лавров. Но вскоре его ожидало еще большее поражение: проездом через Петербург ему пришлось присутствовать при чтении «Руслана и Людмилы». Происходило это чтение у Жуковского, который, не имея тогда еще собственной семьи, проживал в семействе своего деревенского приятеля А. А. Плещеева, славившегося своим искусным чтением и бывшего вследствие того некоторое время также чтецом императрицы Марии Федоровны. Летом 1818 года, в селе Михайловском, Пушкин вчерне окончил свою поэму, а по возвращении осенью в Петербург усердно занялся ее художественной отделкой. По субботам, когда у Жуковского сходился избранный кружок любителей и литераторов, он, по мере того как подвигалась его работа, прочитывал там песнь за песнью, чтобы выслушать замечания знатоков дела. К началу 1819 года была наконец готова последняя песнь, и, когда он явился опять в обычный день к Жуковскому, его тотчас усадили в кресло посреди комнаты за стол с двумя свечами и стаканом сахарной воды и заставили читать поэму от начала до конца.
Никто из слушателей не смел шелохнуться, чтобы не проронить ни слова. Изредка раздавались только сдержанные восклицания:
– Изумительно!
– Какая смелость выражений!
– Что за яркие краски!
– Что за музыкальные рифмы!
Когда он замолк, с полминуты еще царило кругом благоговейное молчание. Потом, точно по уговору, все разом шумно поднялись, столпились около молодого автора и наперерыв принялись пожимать ему руку, осыпать его непритворными поздравлениями.
– Благодарю вас, господа… – бормотал он, сконфуженный и радостный. – Вот мой учитель!
Он указал на Жуковского. Тот, ни слова не ответив, удалился из комнаты, но вслед за тем опять возвратился и подал «ученику» свой собственный литографированный портрет с надписью: «Ученику-победителю от побежденного учителя в высокоторжественный день окончания „Руслана и Людмилы“».
Из всех присутствующих, после самого Пушкина, наибольшее впечатление приношение это произвело, казалось, на Батюшкова. Один он только не двинулся из своего дальнего, полутемного угла, когда все остальные обступили Пушкина. Теперь он нервно сорвался со стула, схватил шапку, наскоро простился с хозяином и выбежал вон. Но два месяца спустя, находясь уже в Неаполе и несколько успокоясь, он писал А. И. Тургеневу в Петербург:
«Просите Пушкина именем Ариоста выслать мне свою поэму, исполненную красот и надежды, если он возлюбит славу паче рассеяния».
В 1820 году, наконец, «Руслан и Людмила» явилась в печати. Уже ранее о поэме ходило в публике так много слухов, что все наперерыв бросились читать ее. Истинный ценитель художественных произведений Белинский не выступил еще в то время на литературное поприще; зато в мелких рецензентах не было недостатка. И вот во всей нашей журналистике поднялся невообразимый гам. Одни критики называли перо Пушкина «мастерским», самого Пушкина величали «юным гигантом словесности нашей»; другие, напротив, с пеною у рта громили его и за древнерусский фантастический сюжет, и за простонародные и необычные выражения. Дельвиг кратко и метко в четырех строках охарактеризовал бестолковые пересуды этих непризнанных судей:
Хоть над поэмою и долго ты корпишь,
Красот ей не придашь и не умалишь!
Браня – всем кажется, ее ты хвалишь;
Хваля – ее бранишь.
Зато масса читающей публики была безусловно пленена, побеждена поэмой, которой по изяществу и звучности стиха ничего подобного до тех пор у нас не существовало. Первый крупный поэтический опыт разом завоевал Пушкину твердое и первенствующее положение между современными ему стихотворцами.
Сам он ко времени выхода поэмы в свет был уже далеко от Петербурга – на юге России. Но следовавшие за его лицейскими годами переходные к возмужалости годы выходят уже за рамки нашего рассказа, и мы коснулись их только в той мере, в какой они органически связаны со школьным периодом его жизни.
Эпилог
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир – чужбина;
Отечество нам – Царское Село.
«19 октября»
Дохнула буря – цвет прекрасный
Увял на утренней заре!
Потух огонь на алтаре!
«Евгений Онегин»
Рассказ наш о «лицейских годах» Пушкина не был бы вполне закончен, если бы мы не сказали еще несколько слов о той связи, которая сохранилась между бывшими товарищами по оставлении лицея. Царское Село и 19 октября (день открытия лицея) – вот два магнита, оказывавшие на лицейскую семью и впоследствии неизменную притягательную силу.
К первой лицейской годовщине по выпуске из лицея Пушкин не возвратился еще из села Михайловского и потому не мог участвовать в обычном празднестве. На этот раз оно происходило также в Царском Селе, в ближайшее к 19 октября воскресенье, но не после этого числа, а до него, именно 13 октября. Причиною тому было то, что на этот день было назначено освящение вновь отстроенной в Царском лютеранской церкви и директор Энгельгардт нашел наиболее удобным соединить оба торжества. В «Сыне Отечества» 1818 года напечатано «Письмо лицейского ветерана к лицейскому ветерану», описывающее этот знаменательный день, и если бы даже внизу не стояло подписи «Вильгельм К.», то по сентиментальному тону этого любопытного документа нетрудно было бы догадаться, кто автор его. Объяснив вначале повод к торжеству, Кюхельбекер продолжает так:
«Представь себе все наши, столь тебе знакомые разговоры с ним, с достойным начальником нашим (Энгельгардтом); представь себе всех ветеранов, сколько нас ни было в Петербурге, за столом его, в кругу его семейства, членами его любезного семейства. Представь, как многие из нас бродят по родным, но незабвенным местам, где провели мы лучшие годы своей жизни; как иной сидит в той же келье, в которой сидел шесть лет, забывает все, что с ним ни случилось со времени его выпуска, и воображает себе, что он тот же еще воспитанник, тот же еще лицейский; как двое других, которых дружба и одинакие наклонности соединили еще в их милом уединении, навещают в саду каждое знакомое дерево, каждый куст, каждую тропинку, обходят пруд, останавливаются на Розовом поле, на Екатерининском месте, или в темных аллеях, окружающих Павильон уединения. Какую сладостную меланхолию вливала осень в мою душу здесь, в родном краю моем!..
(Далее в письме описывается вечерний спектакль, за которым следовали бал и ужин.)
…Представление кончилось; заиграли польское – и бал открывается в другом уже зале; но вдруг четверо из лицейских ветеранов останавливают весь ряд танцующих, обнимают достойного директора, благодарят его, благодарят со слезами за представление пьесы, которая служит для них доказательством, что и их преемники воспитываются в тех самых правилах, в которых они воспитывались, в правилах, которые научили нас любить отечество и добродетель более жизни, более крови своей…»
Выписанный нами выше эпиграф лучше всего выражает те чувства, которые продолжал питать к Царскому Селу Пушкин. А какою искреннею, просветленною грустью веет от следующих строк, вылившихся у него в 1828 году, при возвращении, после многолетнего отсутствия, в дорогие ему места:
Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой…
Так отрок Библии, безумный расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев наконец родимую обитель,
Главой поник и зарыдал…
Пушкин зашел тогда, конечно, и в лицей. Об этом посещении его подробностей не сохранилось. Лицеист 7-го выпуска, покойный академик наш Я. К. Грот, был тогда в младшем курсе и не видел Пушкина, который ходил только со старшим курсом; но три года спустя, в 1831 году, когда Пушкин, женившись, жил все лето в Царском, Гроту удалось видеть его в лицее.
«Никогда не забуду восторга, с каким мы его приняли (рассказывает он). Как всегда водилось, когда приезжал кто-нибудь из наших „дедов“, мы его окружили всем курсом и гурьбой провожали по всему лицею. Обращение его с нами было совершенно простое, как с старыми знакомыми; на каждый вопрос он отвечал приветливо, с участием расспрашивал о нашем быте, показывал нам свою бывшую комнатку и передавал подробности о памятных ему местах. После мы не раз встречали его гуляющим в царскосельском саду, то с женою, то с Жуковским».
Жившие в Петербурге «деды» лицейские, т. е. лицеисты первого выпуска, верные преданиям лицея, ежегодно праздновали лицейскую годовщину, сперва на квартире у Илличевского, а потом у Тыркова и Яковлева. Последнему за это было присвоено почетное прозвище лицейского старосты, а квартира его называлась лицейским подворьем. Сходки «дедов» имели чисто товарищеский, семейный характер, и на них не допускалось ни одно постороннее лицо – даже из числа лицеистов последующих выпусков. В виде исключения с 1824 года чести этой удостаивался один человек – бывший директор их Энгельгардт, который за год перед тем оставил службу в лицее.
Нечего говорить, что Пушкин по возвращении своем в Петербург сделался также постоянным участником этих товарищеских собраний. Юмористические протоколы их по большей части написаны его рукой. Протокол 1828 года, составленный им же, начинается так:
«Собралися на пепелище скотобратца Курнофеюса Тыркова, по прозванию Кирпичного бруса, 8 человек скотобратцев, а именно: Дельвиг – Тося, Илличевский – Олосенька, Яковлев – Паяс, Корф – дьячок Мордан, Стевен – Швед, Тырков (смотри выше), Комовский – Лиса, Пушкин – Француз (смесь обезьяны с тигром)»[61].
Далее в протоколе идут 11 пунктов, в которых перечисляются занятия собрания. В этих пунктах значится, между прочим: «вели беседу»; «пели скотобратские куплеты прошедших шести годов» (т. е. «прощальную песнь» Дельвига); «Олосенька, в виде французского тамбур-мажора, утешал собравшихся»; «Тырковиус безмолвствовал»; «толковали о гимне ежегодном и негодовали на вдохновение скотобратцев»; «Паяс представлял восковую фигуру».
Последний, 11-й пункт гласил:
«И, завидев на дворе час 1-й и стражу вторую, скотобратцы разошлись, пожелав доброго пути воспитаннику императорского лицея Пушкину, Французу, иже написа сию грамоту»[62].
За этим следуют подписи, а после них куплет опять рукою Пушкина:
Усердно помолившись Богу,
Лицею прокричав ура! —
Прощайте, братцы: мне в дорогу,
А вам в постель уже пора.
«В дорогу» Пушкин собирался почти всякую осень, потому что это время года в деревенском уединении было особенно плодотворно для его поэтической деятельности.
В тех случаях, когда его не было в Петербурге к 19 октября, он присылал обыкновенно «скотобратцам» стихотворное приветствие. Без него, их записного певца, лицейский праздник был точно немыслим.
Последнюю лицейскую годовщину перед своей смертью, 19 октября 1836 года, Пушкин снова провел в кругу друзей. Печальный, как бы убитый вид его обратил общее их внимание. На вопрос: что с ним? – он отговорился нездоровьем. На второй вопрос: не написал ли чего по случаю 25-летия лицея? – он отвечал, что написал, но не совсем окончил. По неотступной просьбе товарищей он нехотя достал из кармана листок и стал читать свое превосходное стихотворение.
Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался…
Но слезы мешали ему читать, мешали видеть. Голос его оборвался, и, быстро встав, он удалился на другой конец комнаты. Один из товарищей вместо него дочел стихи вслух. В углу своем Пушкин просидел довольно долго, пока настолько успокоился, что мог опять присесть за стол к друзьям. Он будто предчувствовал свой близкий конец, предчувствовал живее, чем еще пять лет перед тем, когда в этом же товарищеском кружке предсказывал:
И мнится, очередь за мной…
Зовет меня мой Дельвиг милый…
Дельвиг на целые шесть лет опередил своего друга. По выходе из лицея он с грехом пополам четыре года тянул служебную лямку мелким чиновником в министерстве финансов. По врожденному своему отвращению к серьезному труду, он осенью 1821 года вышел уже в отставку, чтобы иметь еще более досуга для любимого своего занятия – изящной словесности. Но жить исключительно литературой в те времена было невозможно, и потому Дельвиг принял место помощника библиотекаря в Императорской Публичной библиотеке, которое предложил ему директор этой библиотеки – Оленин. Покровительствуя молодым литераторам, Оленин нарочно определил его помощником к знаменитому баснописцу Крылову, который занимал должность библиотекаря. Хотя Крылов был не менее ленив, чем Дельвиг, но так как дела у обоих было немного, то они ладили между собой. Скопленные в Публичной библиотеке драгоценные литературные материалы, которыми мог теперь постоянно пользоваться Дельвиг, дали его Музе более положительное направление: от лирических стихотворений он обратился к идиллиям в классическом роде. В 1825 году он женился и перешел чиновником особых поручений в министерство внутренних дел. Место это, с одной стороны, лучше обеспечивало его в материальном отношении, а с другой – давало ему еще больше досуга. Вся служба его ограничивалась тем, что он приходил в департамент и собирал около себя кружок слушателей-сослуживцев, потому что был прекрасным рассказчиком и имел всегда в запасе целый короб новейших анекдотов. Такой же кружок приятелей-литераторов сходился у него на дому по средам и воскресеньям с тех пор, как он зажил семьянином. Что касается его литературного дарования, то едва ли не один Пушкин только, по сердечной привязанности к лицейскому другу, считал его крупным талантом. Баснописец Измайлов резко, но метко охарактеризовал значение обоих в следующей басне:
Репейник возгордился,
Да чем же? – С розою в одном саду он рос.
Иной молокосос,
Который целый курс проспал и проленился,
А после и в писцы на деле не годился,
Твердит, поднявши нос:
«С таким-то вместе я учился!»
Хорош тот, слова нет!
Ему хвала и честь;
Да что, скажи, в тебе-то есть?
Впрочем, не создав сам ничего сколько-нибудь выдающегося, Дельвиг обладал тонким эстетическим вкусом, и Пушкин, пока был жив его друг, читал ему всегда свои новые произведения до их печатания и исправлял их по его советам. Идеалист Жуковский, зараженный пристрастием Пушкина к Дельвигу, возлагал на последнего также несбыточные надежды и особенно увлекался его широко задуманными планами новых поэм. Однажды, выслушав такой план, Жуковский крепко обнял Дельвига и воскликнул:
– Берегите это сокровище в себе до дня его рождения!
Поэт-ленивец так свято берег свое «сокровище», что оно никогда не увидело света Божьего, как и все его большие замыслы. Года за четыре до своей смерти Дельвиг стал издавать альманах «Северные цветы». Альманах этот был принят публикой довольно благосклонно. В 1830 году он задумал «Литературную газету»; но крупные неприятности, вышедшие у него с цензурой, настолько подействовали на него, что и без того слабое здоровье его не выдержало: он слег и уже не оправился. 14 января 1831 года он умер на руках жены, на 33-м году жизни. Пушкина в то время не было в Петербурге; но как глубоко чувствовал он эту утрату, видно из следующих строк его к Плетневу:
«Что скажу тебе, мой милый! Ужасное известие получил я в воскресенье. На другой день оно подтвердилось. Вчера ездил я к Салтыкову[63] объявить ему все – и не имел духу. Вечером получил твое письмо. Грустно, тоска! Вот первая смерть, мною оплаканная… Никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он один остался на виду – около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? Ты, я, Баратынский – вот и все. Вчера провел я день с Нащокиным[64], который сильно поражен его смертью. Говорили о нем, называя его „покойник Дельвиг“, и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать! Согласимся: покойник Дельвиг – быть так Баратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров – и постараемся быть живы».
Нам, потомкам, Дельвиг интересен только как верный спутник и «оруженосец» поэта-гения, и сам он лучше всего выразил свое литературное значение в эпитафии, которую написал себе:
Что жизнь его? Протяжный сон.
Что смерть? От грез ужасных пробужденье.
С первым другом своим – Пущиным Пушкин встречался только изредка в театре да у общих знакомых. С лицейской скамьи дороги их разошлись: в то время как ветреник Пушкин искал сильных ощущений в развлечениях «большого света», более степенный Пущин весь отдался коронной службе – сперва военной, а затем гражданской, перейдя судьей в уголовную палату. Тем не менее, даже при этих редких встречах, братские отношения их друг к другу не изменились; а когда Пушкин с 1824 года безвыездно поселился в селе Михайловском, Пущин был один из тех трех друзей, которые обрадовали его там:
Троих из вас, друзей моей души,
Здесь обнял я. Поэта дом печальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его лицея превратил.
(Вторым гостем его был Горчаков, третьим – Дельвиг.) В «Записках» своих Пущин так живо описывает эту поездку свою в Михайловское, что мы передадим рассказ его собственными его словами:
«Проведя праздник у отца в Петербурге, после Крещения я поехал в Псков. Погостил у сестры несколько дней и от нее вечером пустился из Пскова; в Острове, проездом, ночью взял три бутылки клико (шампанского) и к утру следующего дня уже приближался к желаемой цели. Свернули мы, наконец, с дороги в сторону, мчались, среди леса, по гористому проселку: все мне казалось не довольно скоро! Спускаясь с горы, недалеко уже от усадьбы, которую за частыми соснами нельзя было видеть, сани наши, в ухабе, так наклонились набок, что ямщик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником от лицейского порога, кое-как удержался в санях. Схватили вожжи. Кони несут среди сугробов, опасности нет, в сторону не бросятся, все лес, и снег им по брюхо; править не нужно. Скачем опять в гору извилистой тропой; вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились с маху в притворенные ворота, при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора.
Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим! Он забыл, что надобно прикрыть наготу, я не думал об заиндевевшей шубе и шапке. Было около 8-ми часов утра. Не знаю, что делалось. Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один – почти голый, другой – весь забросанный снегом. Наконец пробила слеза (она и теперь, через 33 года, мешает писать в очках); мы очнулись. Совестно стало перед этой женщиной; впрочем, она все поняла. Не знаю, за кого меня приняла; только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая, и чуть не задушил ее в объятиях.
Все это происходило на маленьком пространстве. Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, в которое он увидел меня, услышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, диван, шкаф с книгами, и проч., и проч. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда, с самого лицея писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах).
После первых наших обниманий пришел и Алексей, который, в свою очередь, кинулся целовать Пушкина: он не только близко знал и любил поэта, но и читал наизусть многие из его стихов.
Подали нам кофе; мы уселись с трубками. Беседа пошла правильнее; многое надо было хронологически рассказать, о многом расспросить друг друга.
Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя, однако же, ту же веселость; может быть, самое положение его произвело на меня это впечатление. Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз повторял, что ему еще не верится, что мы вместе. Прежняя его живость во всем проявлялась – в каждом слове, в каждом воспоминании: им не было конца в неумолкаемой нашей болтовне.
Я привез Пушкину в подарок „Горе от ума“; он был очень доволен этой, тогда рукописной комедией, до того ему вовсе почти незнакомой. После обеда, за чашкою кофею, он начал читать ее вслух; жаль, что не припомню теперь метких его замечаний, которые, впрочем, потом частию явились в печати.
Потом он мне прочел кое-что свое, большею частью в отрывках, которые впоследствии вошли в состав замечательных его пьес; продиктовал начало из поэмы „Цыганы“ – для „Полярной звезды, и просил, обнявши крепко Рылеева, благодарить за его патриотические Думы.
Между тем время шло за полночь. Нам подали закусить; на прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись, в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчала расставанье после так отрадно промелькнувшего дня. Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякал у крыльца, на часах ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилось: как будто чувствовалось, что в последний раз вместе пьем и пьем на вечную разлуку! Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин еще что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него: он остановился на крыльце со свечкой в руке. Кони рванули под гору. Послышалось: „Прощай, друг!“ Ворота скрипнули за мной…“»
Друзьям не было уже суждено свидеться: вскоре Пущина превратная судьба занесла на другой край света – на границу Китая, в Читу. Но в самый день прибытия его туда ему вручили пришедшее уже раньше приветствие друга-поэта:
Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое Провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!
Уже стариком Пущин получил разрешение возвратиться на родину, в село Марьино, Бронницкого уезда, Московской губернии, где тихо и окончил век свой 3 апреля 1859 года.
Еще безотраднее была судьба третьего приятеля Пушкина, Кюхельбекера. Несмотря на свои выдающиеся способности, на свои прекрасные душевные качества, на свое немецкое усердие и терпение, он, как и надлежало истому Дон Кихоту, начал и кончил жизнь восторженным сумасбродом и неудачником. Попав с лицейской скамьи вместе с Пушкиным в коллегию иностранных дел, он, однако, скоро бросил службу и укатил за границу. Здесь, в Париже, он не без успеха прочел по-французски несколько лекций о славянской литературе; но он дал слишком большой простор своему красноречию; и его вызвали обратно в Россию. Перейдя на службу в Тифлис, он близко сошелся там с Грибоедовым. Но его тянуло в Москву, и в 1823 году он окончательно перебрался туда. Существуя уроками в университетском пансионе и в частных домах, он все свободное время посвящал литературе. Даже Пушкин, который прежде постоянно подтрунивал над его стихотворными опытами, начал относиться теперь к ним снисходительнее: благодаря своей настойчивости Кюхельбекер выработал себе понемногу правильный русский слог и стал строчить очень недурные, хотя и напыщенные стихи, которые охотно принимались в журналы. В сообществе с князем Одоевским он предпринял, наконец, и собственный журнал: «Мнемозину». Но роковой для многих русских литераторов 1825 год оказался таковым и для Кюхельбекера. Десять лет несчастный безумец должен был искупать свои заблуждения в стенах тюрьмы, а всю остальную жизнь – в ссылке. Но и в заточении, в разлуке со всеми близкими, он не упал духом: по доставлявшимся ему журналам и книгам он прилежно следил за умственным движением и ростом милой ему России, вел дневник всему прочитанному и лучшее утешение находил в молчаливой беседе со своей собственной Музой. 19 октября 1836 года, когда Пушкин в последний раз праздновал с друзьями в Петербурге лицейскую годовщину, на другом краю света опальный товарищ его, Кюхля, изливал в стихах свои чувства к ним и в особенности к Пушкину, своему идеалу:
Чьи резче всех рисуются черты
Пред взорами моими? Как перуны
Сибирских гроз, его златые струны
Рокочут… Пушкин! Пушкин! Это ты!
В 1837 году Кюхельбекер женился на совершенно необразованной девушке, дочери баргузинского почтмейстера, которая нимало не могла разделять его возвышенных стремлений. Во время зимней бури в 1844 году, переезжая Байкал и спасая жену и детей, Кюхельбекер так простудился, что уже не поправился. Вдобавок он вскоре еще ослеп. Незадолго перед своим концом он продиктовал старому товарищу своему, Пущину, последнюю свою волю и умер от чахотки в Тобольске 11 августа 1846 года. На могильной плите его начертали всепрощающие слова Спасителя:
«Приидите ко Мне вси страждущий и обремененнии и Аз упокою вы!»
Двое других лицейских стихотворцев, связанные между собой тесной дружбой как создатели «Лицейского мудреца», Илличевский и Корсаков, не оправдали возлагавшихся на них надежд. Илличевский, которому профессор Кошанский отдавал когда-то предпочтение даже перед Пушкиным, оставил след в литературе небольшим только томиком стихов «Опыты в антологическом роде», изданным в 1827 году, на служебном же поприще дошел не далее начальника отделения. Из Корсакова, поэта и музыканта, может быть, со временем и развился бы талант, но уже три года по выпуске из лицея он скончался, как и Кюхельбекер, от чахотки на чужбине, во Флоренции. Достойно удивления присутствие духа, которое выказал Корсаков перед неизбежным концом: за час еще до смерти он сочинил самому себе русскую надгробную надпись и нарочно написал ее четкими, крупными литерами, чтобы итальянские граверы, копируя, ненароком не исказили ее. Вот эта надпись:
Прохожий, поспеши к стране родной своей!
Ах! Грустно умирать далеко от друзей!
В одном из своих стихотворений, посвященных лицейской годовщине (1825 г.), Пушкин, пересчитывая отсутствующих друзей, сочувственно вспоминает и о Корсакове:
Он не пришел, кудрявый наш певец,
С огнем в очах, с гитарой сладкогласной:
Под миртами Италии прекрасной
Он тихо спит, и дружеский резец
Не начертал над русскою могилой
Слов несколько на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет унылый
Сын севера, бродя в краю чужом.
Две матки лицейские, граф Броглио и Комовский, имели диаметрально противоположную участь. Первый, замешанный в 1829 году в возмущении Греции, погиб молодым еще человеком геройскою смертью в случайной стычке; второй, прослужив недолго помощником статс-секретаря государственного совета, удалился в свою частную жизнь и окончил ее мирно в глубокой старости, в 1880 году, искренне оплакиваемый семьей и многочисленными друзьями.
Большинство других товарищей Пушкина, упоминаемых в нашем рассказе, достигло на государственной службе «степеней известных»: Ломоносов был посланником в Гаге, барон Корф – членом государственного совета и директором Императорской Публичной библиотеки, Корнилов – сенатором, Бакунин – тверским губернатором, Вальховский – бригадным генералом, Матюшкин – адмиралом, Маслов – директором департамента податей и сборов, Малиновский и Данзас – полковниками. Всех их, однако, неизмеримо опередил один – князь Горчаков. Как в лицее он был у всех на виду, ставился всем в пример, так точно и за стенами лицея он выдвинулся впереди всего русского народа, стал первым подданным русского царя – государственным канцлером и министром иностранных дел. Сколько раз судьба России была, можно сказать, в его руках! Сколько раз взоры всей Европы были неотступно устремлены на него! И ему же было суждено пережить всех первенцев лицея. Удалившись уже от дел, но сохраняя почетное звание канцлера, он угас от старческой дряхлости 27 февраля 1883 года. Таким образом, к нему, оказывается, относились вещие слова его гениального товарища-поэта:
Кому ж из нас под старость день лицея
Торжествовать придется одному?
Несчастный друг! Средь новых поколений
Докучный гость и лишний, и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой…
Профессор лицеистов первого выпуска Кошанский, который, во всяком случае, дал первый толчок их литературному направлению, впоследствии гордился своим гениальным учеником-поэтом. Я. К. Грот в своих школьных воспоминаниях рассказывает об этом, между прочим, следующее:
«Читать с воспитанниками Пушкина еще не было принято и в лицее; его мы читали сами иногда во время классов украдкою. Тем не менее, однако ж, Кошанский раз привез нам на лекцию только что полученную от Пушкина из деревни рукопись – „19 октября 1825 года“ („Роняет лес багряный свой убор…“) и прочел нам это стихотворение с особенным чувством, прибавляя к каждой строфе свои пояснения. Только там, где речь зашла о заблуждениях поэта, он довольствовался многозначительной мимикой, которая вообще входила в его приемы. Особенно при стихах:
Наставникам, хранившим юность нашу,
Не помня зла, за благо воздадим…
он дал нам почувствовать, что и Пушкин не во всем заслуживает подражания».
Умер Кошанский в 1831 году в должности директора института слепых в Петербурге; а любимый профессор лицеистов Куницын – в 1840 г. директором департамента духовных дел иностранных исповеданий. Из числа прочих профессоров Гауеншильд ознаменовал себя переводом на немецкий язык истории Карамзина.
Назвав Карамзина, не можем кстати не упомянуть, что хотя знаменитый историограф имел непосредственное влияние на Пушкина только до 1820 года, после которого им не суждено было уже свидеться, но, как дорог он всегда оставался Пушкину, красноречивее всего говорит текст посвящения «Бориса Годунова»:
«Драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина, сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностью посвящает Александр Пушкин».
Другой неизменный покровитель и старший друг Пушкина, Жуковский, пережил его 15-ю годами и дал нам подробное, глубоко трогательное описание последних минут его. С восшествием на престол императора Николая I, будучи назначен воспитателем наследника (впоследствии императора) Александра Николаевича, Жуковский до 1840 года почти вовсе отказался от литературы; только с этого времени, сделавшись опять свободным, он мог вернуться к своему любимому занятию и перевел стихами, между прочим, всю Гомерову «Одиссею». Последнею, лебединою песнью его было, как думают, стихотворение «Царскосельский лебедь», точно написанное им на самого себя:







