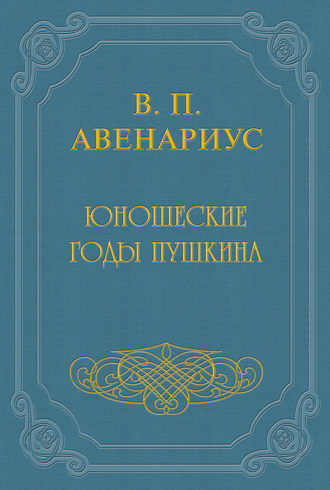
Василий Авенариус
Юношеские годы Пушкина
С легким поклоном директор вышел. Броглио, меняясь в лице, кусая губы, глядел ему вслед; потом вдруг расхохотался. Но хохот его как-то не удался и на полутоне оборвался.
– Что, брат, поперхнулся? – донеслось к нему из ближайшей кучки товарищей.
– Бородобрей! Обрил лучше бритвы! – послышалось из другой группы.
– Дурачье! – буркнул Броглио и, круто повернувшись, вышел также вон.
Прошел день, прошло два, а прежние приятельские отношения Броглио к другим лицеистам еще не возобновились. Энгельгардт, ничуть не изменив своего обхождения с остальными, подходил, как бывало, то к одному, то к другому, продолжал называть их «ты», и никто этим не думал обижаться. Самолюбивого же графа он решительно не замечал, глядел на него как в пустое пространство. Такое невнимание к нему любимого директора не осталось без влияния и на прочих воспитанников: точно по уговору, они, видимо, избегали уже опального товарища. Сам Броглио, чувствуя это, гордо сторонился от них и, против обыкновения, забивался куда-нибудь в отдаленный угол с книжкой.
На третьи же сутки Энгельгардт совершенно неожиданно подошел к отверженному.
– Чего ты сидишь все один? – сказал он с обычной своей добротой. – Ступай сейчас играть с друзьями.
Наболевшее сердце молодого графа не выдержало: он отвернулся, чтобы не показать, что у него на глазах слезы.
– Комовский! Тырков! – позвал Энгельгардт проходивших мимо двух лицеистов. – Не видите: на друга вашего хандра напала! Возьмите его с собой.
– Что ж, в самом деле, Броглио? Пойдем с нами, – сказал Комовский.
– Ступай с ними, друг мой, – повторил директор, – они давно соскучились по тебе.
Клеймо, наложенное на опального, было снято, и товарищи тем охотнее приняли его вновь в свою среду, что за последние два дня лишились в нем главного руководителя игр.
С этих пор у лицеистов считалось уже большим наказанием, когда Егор Антонович не удостаивал говорить им «ты». Стоило ему мимоходом спросить кого-нибудь: «Хорошо ли вы, N. N., провели время там-то?» – и все уже знали, что N. N. провинился, и невольно чуждались его, пока не слышали опять обращенное к нему директором отеческое «ты».
Глава XVI
Пушкин и Энгельгардт
Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! Взываю к ней.
«Евгений Онегин»
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
«Воспоминание» (1828)
Если Энгельгардт сумел уже внушить уважение и любовь всем вообще лицеистам, то тем более должны были питать к нему чувство благодарности лицейские литераторы, о которых он специально позаботился увеличением библиотеки и устройством чтений. Восторженный Кюхельбекер, а за ним невозмутимый Дельвиг, действительно, сделались самыми усердными участниками литературных вечеров на квартире директора. Один только Пушкин не мог побороть своего врожденного отвращения к немецкому языку, на котором не только зачастую происходили чтения (потому что читались в оригинале и немецкие классики), но велись также разговоры в семье директора. Недавнее посещение «арзамасцев» тянуло его совершенно в другую сторону – к родной литературе. Душевное настроение его в это время лучше всего рисует следующее письмо его к князю Вяземскому от 27 марта 1816 года:
«Признаюсь, что одна только надежда получить из Москвы русские стихи Шапеля и Буало могла победить благословенную мою лень. Так и быть, уж не пеняйте, если письмо мое заставит зевать ваше пиитическое сиятельство: сами виноваты! Зачем дразнить было несчастного царскосельского пустынника, которого уж и без того дергает бешеный демон бумагомарания?..
Что сказать вам о нашем уединении? Никогда Лицей (или Ликей, только, ради Бога, не Лицея) не казался мне так несносным, как в нынешнее время. Уверяю вас, что уединение в самом деле вещь очень глупая, назло всем философам и поэтам, которые притворяются, будто бы живали в деревнях и влюблены в безмолвие и тишину.
Блажен, кто в шуме городском
Мечтает об уединенье,
Кто видит только в отдаленье
Пустыню, садик, сельский дом,
Холмы с безмолвными лесами,
Долину с резвым ручейком
И даже… стадо с пастухом!
Блажен, кто с добрыми друзьями
Сидит до ночи за столом
И над словенскими глупцами
Смеется русскими стихами.
Правда, время нашего выпуска приближается; остался год еще. Но целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного!.. Это ужасно! Право, с радостью согласился бы я двенадцать раз перечитать все 12 песен пресловутой „Россиады“, даже с присовокуплением к тому и премудрой критики Мерзлякова, с тем только, чтобы граф Разумовский сократил время моего заточения. Безбожно молодого человека держать взаперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовольствии погребать покойную „Академию“ и „Беседу губителей Российского слова…“»
Но вот, очень скоро после этого письма, Пушкин зачастил в дом Энгельгардта, сделался там почти ежедневным гостем. И вдруг, точно так же внезапно, он прекратил опять свои посещения. Что было причиной того и другого?
У Энгельгардта собралось к чаю, по обыкновению, несколько человек лицеистов; был тут и Пушкин. Весь вечер он был в каком-то ненормальном настроении духа. Сперва он был до ребячества весел, до колкости остроумен; потом вдруг стал до беспамятства рассеян, до угрюмости молчалив. Такая перемена совпала в нем как раз с исчезновением из-за чайного стола молодой родственницы хозяина, Марии Смит.
– Да где же Мери? – хватилась ее хозяйка и отправилась отыскивать отсутствующую.
Вскоре затем возвратившись, она наклонилась к уху мужа и шепнула ему что-то. При этом взор ее на одно мгновение вперился в лицо Пушкина. Но взор этот был так пытлив и проницателен, что Пушкин зашевелился на стуле и опустил глаза. Между тем Энгельгардт встал и ушел в свой кабинет.
– Что с мадам Смит? – спросил кто-то за столом.
– Ничего… мигрень… – отрывисто отозвалась г-жа Энгельгардт.
Немного погодя, Егор Антонович вышел опять из кабинета.
Он не взглянул ни на кого, не промолвил ни слова; но пасмурное, почти суровое выражение его лица, всегда столь открытого и приветливого, не предвещало ничего доброго.
Когда пробила половина десятого и лицеисты стали расходиться, Энгельгардт задержал Пушкина:
– Останьтесь на минутку.
Потом, выждав, когда все прочие удалились, он позвал его за собой в кабинет.
– Что это значит, Пушкин? – с сдержанным негодованием заговорил он тут. – Сколько я знаю, вы – хорошего семейства: в лицей воспитанников принимают с строгим разбором; у вас самих есть, кажется, и старшая сестра?
– Есть… – отвечал Пушкин, не смея поднять на директора глаз.
– Как же вы, скажите, позволили себе такую выходку с Мери?
– Что же я такое сделал, Егор Антоныч? Я написал ей только стихи…
– Стихи – да; но какие!
Они стояли около письменного стола, освещенного лампой. Егор Антонович поднял на столе пресс-папье, под которым лежала пачка бумаг. Сверху оказался розовый почтовый листок, очень хорошо знакомый Пушкину. Энгельгардт взял его в руки.
– Вы не знаете еще никакого различия между людьми! – продолжал он, и в голосе его невольно прорывалось его душевное раздражение. – Не говоря уже о совершенной неуместности вообще обращаться со стихами к молодой даме, когда она со своей стороны не подала к тому ни малейшего повода, – у вас есть тут, например, такие стихи:
О, бесценная подруга!
Вечно ль слезы проливать?
Вечно ль мертвого супруга
Из могилы вызывать?
Что это такое, Бога ради, объясните мне? Молодую вдову, которая едва схоронила только и оплакивает своего любимого мужа, без спросу утешает первый попавшийся школьник и для рифмы еще осмеливается называть ее «бесценной подругой»! Скажите: что вы – в уме своем были или нет?
Пушкин молчал, сгорая от стыда и досады. Энгельгардт пристально смотрел на него, как бы стараясь проникнуть в глубину его души.
– Вы не думайте, что я слишком короткое время знаю вас, – заговорил он опять. – Хоть я, правда, здесь в лицее всего несколько недель, но я старался внимательно изучить всех вас и составил лично для себя даже письменно характеристику каждого из вас. Я буду с вами, Пушкин, вполне откровенен: я прочту вам то, чего никому не читал, никому не прочту.
Вынув из стола толстую тетрадь, Энгельгардт стал перелистывать ее[39].
– Я пишу для себя по-немецки, – объяснил он. – Вы хотя и слабы в этом языке, но, надеюсь, сколько нужно – поймете. Если же чего не поймете, то спросите – я вам переведу. Слушайте, что у меня сказано про вас:
«Его высшая и конечная цель – блестеть, и именно поэзиею; но едва ли найдет она у него прочное основание, потому что он боится всякого серьезного учения, и его ум, не имея ни проницательности, ни глубины, совершенно поверхностный, французский ум».
– Верно это или нет? – спросил Егор Антонович, переставая читать.
– Может быть, и верно… – с глухим ожесточением отвечал Пушкин. – Но если природа отказала мне в настоящем уме, так разве в том моя вина?
– Это было у меня написано до сегодняшнего дня, – сказал Энгельгардт. – Но вот час тому назад, когда госпожа Смит передала ваши стихи, я приписал следующее:
«Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и пусто; в нем нет ни любви, ни религии; может быть, оно так пусто, как никогда еще не было юношеское сердце. Нежные и юношеские чувствования унижены в нем воображением…»[40]
– Нет, Егор Антоныч! Это уже неправда! – горячо перебил тут Пушкин. – О религии лучше не будем говорить, потому что вы – лютеранин, я – православный; но сердце во мне есть, теплое русское сердце… когда-нибудь вы это узнаете…
В голосе поэта-лицеиста сквозь слезы звучала нота глубоко уязвленного самолюбия.
– Дай-то Бог! – вздохнул Энгельгардт. – Но если так, то чем же прикажете объяснить ваш поступок? Беспредельным легкомыслием, что ли? Скажите: вы любите вашу сестру?
– Как вы еще спрашиваете!
– Очень любите?
– Очень.
– Так вот, представьте же себе, что она вышла бы замуж, что она вскоре бы овдовела, и тут какой-нибудь молодчик без всякого повода с ее стороны написал бы ей такое же точно милое утешение. Сочли ли бы вы это за дерзость?
– Еще бы!..
– Как же вы поступили бы с ним?
Ответа не было.
– Что сделали бы вы с ним? – повторил Егор Антонович.
– Я убил бы его на месте!.. – глухо прошептал Пушкин.
– Надеюсь, что до этого не дошло бы, – сказал Энгельгардт. – Но совесть и, кажется, сердце у вас все же есть. Очень рад и буду еще более доволен, если все окажется с вашей стороны только юношеским увлечением. Во всяком случае, вы поймете, Пушкин, что мадам Смит не может не чувствовать оскорбления, что ей тяжело быть в одном обществе со своим оскорбителем, пока хоть несколько не уляжется ее неприязнь против него.
– Хорошо! Я не буду вовсе ходить к вам… – отрывисто проговорил Пушкин.
– Неделю-другую пропустите, а там опять милости просим. Тем временем вы успеете на досуге вдуматься в ваш поступок. Вообще, всякому из нас нелишне время от времени перебирать свое прошлое, чтобы избегать ошибок. И вам советую делать то же. Доброй ночи!
В последних словах звучало уже снова то отеческое благоволение, которое выказывал директор ко всем лицеистам.
Давно обитатели лицея от мала до велика покоились мирным сном. Один только Пушкин ворочался под своим одеялом и ни в каком положении не находил себе покоя. О! Как охотно открыл бы он теперь наболевшую душу перед первым своим другом, Пущиным… Стоило ведь только стукнуть в разделявшую их стенку. Но рука у него не подымалась: признаться другу в таком поступке – о, нет, нет!.. Тот от него, пожалуй, тоже отшатнется…
«Вдумайтесь на досуге в ваш поступок; переберите ваше прошлое», – вспомнились ему тут слова директора. И с каким-то горьким самоуслаждением кающегося дервиша, истязающего самого себя, он стал в памяти перебирать свое прошлое, свое непослушание и своеволие как в родительском доме, так и в лицее, разные мелкие столкновения с товарищами, с начальством… Ночью, когда воображение наше работает сильнее, все предметы, как известно, являются нам в значительно преувеличенном виде. Нагромождая против себя обвинение на обвинение, Пушкин представлялся сам себе наконец каким-то беспримерным, чудовищным грешником. Слезы душили его, но он пересиливал себя, и только глубокие вздохи невольно вырывались из его груди.
– Что же ты, Пушкин, не ходишь уже к Егору Антонычу? – спросил его как-то несколько дней спустя Пущин.
– Как не хожу? Вчера еще был… – отговорился он.
– Вчера? Нет, вчера как раз я был там, и тебя наверное не было.
– Ну, так третьего дня.
– И третьего дня тебя там не могло быть: мы вместе же с тобой сидели еще здесь за ужином, помнишь?
– Ах, отстань, пожалуйста!
Покачав головой, Пущин отстал.
Но вот две и три недели прошли уже со времени разговора с директором, а Пушкин по-прежнему чуждался его. Сам Егор Антонович наконец зашел к нему в камеру, где застал его за конторкой с пером в руках. Обернувшись и увидев директора, Пушкин как будто оторопел и спрятал свое писание в конторку.
– Пиши, пиши: я не хочу мешать тебе, – с прежней уже ласковостью заговорил Энгельгардт. – Я хотел только спросить тебя, Пушкин: за что ты еще дуешься на меня?
– Я не дуюсь, Егор Антоныч… – не поборов еще смущения, отвечал Пушкин.
– Но ты не бываешь у меня?
– Вы очень хорошо знаете, Егор Антоныч, почему…
– О! Если ты про то, то все уже давно забыто и прощено. О тебе уже спрашивали…
– Благодарю вас; но… извините меня…
– Так ты меня, видно, вовсе не любишь? Но за что, скажи?
– Вы сами же, Егор Антоныч, меня тоже терпеть не можете! – с внезапною горечью вырвалось у Пушкина. – Вы считаете меня совсем бессердечным…
– Я, может быть, несколько переменил уже мое мнение о тебе; от тебя же зависит совершенно переубедить меня.
Обняв рукой юношу, Энгельгардт продолжал:
– То, что я слышал с тех пор про тебя от твоих наставников, от твоих товарищей, заставило меня глубже вдуматься в тебя. Из тебя выйдет, вероятно, не совсем заурядный человек. У тебя нет необходимой выдержки, усидчивости – правда; но зато природа одарила тебя богаче многих других. Ты нахватал урывками массу сведений, которых не найти ни в каких учебных книгах. Между тем обмен мыслями с другими людьми еще более упражняет и обогащает ум. Поэтому тебе просто грех избегать общества, которого ты мог бы быть украшением.
Пушкин слушал молча, насупив брови и отворотившись от директора.
– Напротив, Егор Антоныч, – отрывисто наконец произнес он, – я вовсе не гожусь для общества. В обществе требуется так называемый такт, то есть лицемерие, ложь; а я лгать не умею: что на душе, то и на языке.
– Лгать, мой друг, или не всегда говорить правду – разница огромная. Можно быть благороднейшим, правдивейшим человеком – и высказывать истину только там, где от того может быть польза, умалчивать же о ней там, где нет от того пользы или где можно нанести только незаслуженный вред или оскорбление. Не безрассудно ли, например, не жестоко ли доказывать слепому счастье зрячих – видеть окружающий мир и несчастие его самого – не иметь зрения? Не безумно ли описывать лопарю прелести итальянской природы и убеждать его, что судьба обидела его суровым климатом, бесплодной землей?
– Ну, конечно… – должен был согласиться Пушкин.
– А не случалось ли, подумай, и тебе колоть глаза твоим ближним такими их недостатками, которых они, при всем желании, не могут исправить?
– Случалось… Но если кто чересчур уже смешон, как, например, Кюхельбекер, то как же над ним не посмеяться?
– Посмеяться – да, про себя, в душе; но не поднимать его публично на смех, не глумиться над ним перед всеми, не оскорблять в нем человека. Затем, однако, ты вообще также слишком опрометчиво выражаешь свои чувства, свои мнения (часто справедливые, но чаще еще преувеличенные) там, где следовало бы промолчать, – и приговор о тебе, по большей части слишком строгий, уже составлен. И я, признаюсь, поторопился несколько своим заключением о тебе. Но теперь между нами, надеюсь, нет уже недоразумений?
Пушкин все еще не оборачивался к говорящему; но ярко раскрасневшиеся уши явно выдавали его глубокое душевное волнение.
– Я тоже до сих пор не понимал вас, Егор Антоныч… – прошептал он прерывающимся голосом.
– Не будем более говорить об этом, – с чувством прервал его Энгельгардт. – Обещаешь ли ты мне, Пушкин, что не станешь более бегать моего дома?
– Обещаюсь…
И вдруг, обернувшись, он со слезами повис на шее директора.
– Я очень виноват перед вами: простите меня…
– Полно, полно.:. – старался успокоить его Энгельгардт, а у самого слезы катились по щекам. – Итак, мы – прежние друзья, и я жду тебя к себе…
Все недоразумения, казалось, были улажены, все препятствия устранены. Но не прошло и десяти минут, как явилось новое, непреодолимое уже, препятствие.
Едва только директор скрылся за дверью, как поэт наш вынул из конторки спрятанный листок. То был рисунок пером с четверостишием под ним. Первым побуждением его было разорвать рисунок. Но когда он перечел внизу куплет, собственная острота показалась ему настолько удачной, что ему жаль ее стало. Он обмакнул перо и стал опять старательно растушевывать картинку.
Он был так погружен в свое занятие, что не заметил, как расторилась дверь камеры, как к нему подошел Энгельгардт, и только тогда очнулся и вздрогнул, когда тот заговорил:
– Я забыл сказать тебе…
Пушкин с таким испугом прикрыл листок рукавом, что Егор Антонович снисходительно улыбнулся.
– Что это у тебя? Верно, стишки?
– Н-да…
– Покажи-ка, если не секрет? От друга нечего таиться…
На поэта словно столбняк нашел, и роковой листок очутился в руках начальника. Что же Егор Антонович увидел там? Карикатуру на самого себя, а под карикатурой злую эпиграмму.
– Теперь я понимаю, почему вы не желаете бывать у меня в доме, – с глубоко огорченным уже видом произнес он. – Не знаю только, чем я заслужил такое ваше нерасположение?
И, возвратив Пушкину его произведение, он тотчас оставил его одного.
– Где же Пушкин? – спросил за вечерним чаем дежурный гувернер.
– Им нездоровится что-то, – доложил Леонтий Кемерский.
Слышавший этот разговор Пущин, наскоро допив стакан, вышел из-за стола и отправился к приятелю. Когда он входил к нему в комнату, по всему полу там были рассыпаны мелкие лепестки разорванной бумаги, а сам Пушкин лежал навзничь на кровати, а спина его приподымалась от нервных всхлипываний.
– Ты, верно, получил какое-нибудь печальное известие, Пушкин? – заботливо осведомился Пущин.
– Нет…
– Так кто-нибудь тебя опять разобидел?
Из груди Пушкина вырвался глухой стон, и он зарыдал сильнее.
– Стало быть, правда? Но кто? Неужели Энгельгардт?
– Да… Уйди только, пожалуйста… – был весь ответ безутешного.
– Но Энгельгардт – благороднейшая душа… – убежденно продолжал Пущин.
Пушкин разом приподнялся на кровати и почти с ненавистью впился красными от слез глазами в лицо друга.
– Уйдешь ли ты?
Он топнул при этом ногой, и слезы градом вдруг брызнули из глаз его.
Пущин участливо посмотрел на него, вздохнул и, не сказав уже ни слова, послушно удалился.
Что было между ним и Энгельгардтом – Пушкин ни теперь, ни после не открыл даже своему ближнему другу. Тот видел только, что между обоими установились какие-то ненатурально холодные, натянутые отношения, почти не изменившиеся до самого выпуска Пушкина из лицея. Но, не бывая уже почти вовсе в семейном кружке Энгельгардта, Пушкин искал и нашел утешение в нескольких других кружках.
Глава XVII
Дядя Василий Львович
Философ резвый и пиит…
«К Батюшкову»
Не желая прерывать нить нашего рассказа о переломе в лицейском междуцарствии, мы не говорили об одном редком госте, который навестил Пушкина на Рождестве 1815 года. Раз его вызвали в приемную – и кого же там встретил он? Игнатия, старика камердинера своего дяди-поэта, Василия Львовича Пушкина, с которым он не виделся с самого своего определения в лицей, т. е. с осени 1811 года.
– Ты ли это, Игнатий? – воскликнул Пушкин и, кажется, обнял бы старого брюзгу, если бы небритое лицо последнего и истасканная ливрея не были покрыты мокрым снегом.
– Я-с, батюшка Александр Сергеич, – отвечал Игнатий, видимо также обрадованный. – Позвольте ручку…
– Не нужно, оставь… Но какими судьбами ты попал сюда из Москвы? Как дядя решился расстаться с тобой?
– Да они-с тоже здесь, со мной.
– Где? Здесь, в Царском?
– Точно так: в возке-с.
– Вот что! Что же он не поднялся сюда наверх?
– Больно, вишь, к спеху: сломя голову в Питер гонят! – брюзжал старик. – Велели вам немедля вниз к ним пожаловать.
Не тратя лишних слов, Пушкин выбежал на лестницу и через три ступени на четвертую соскользнул на руках по перилам до нижней площадки. Но тут его задержал швейцар:
– Куда, ваше благородие? На дворе вьюга…
– Ну, так что ж?
– Как вам угодно-с, а так нельзя-с. Хоть фуражечкой накройтесь.
Пушкин огляделся. На вешалке висело несколько шляп и шапок профессоров и чиновников лицейского правления. Как это кстати! Сорвав с гвоздя первую попавшуюся под руку шапку, он нахлобучил ее себе до ушей, оттолкнул от выходных дверей швейцара и выскочил на улицу.
У подъезда стоял, запряженный четверкой изморенных и запаренных почтовых кляч, тяжеловесный возок. Сквозь напотевшие стекла нельзя было разглядеть сидевшего внутри пассажира. Пушкин дернул ручку дверец – и очутился лицом к лицу со своим дядей, который, впрочем, был так зарыт в медвежью шубу, что племянник узнал его только по высунувшемуся из мехов заостренному и загнутому на один бок носу, слегка зарумяневшемуся теперь от холода.
– Бога ради, притвори! Совсем застудишь возок… – испуганно крикнул ему по-французски Василий Львович и отодвинулся настолько, чтобы дать юноше место около себя.
Тот послушно вскочил в возок и захлопнул дверцы.
– Ну, а теперь здравствуй, Александр.
– Здравствуйте, дяденька.
Заключенный в меховые объятия, Александр ощутил на своих щеках три знакомых ему сочных поцелуя с легким запахом нюхательного табаку.
– Дай-ка посмотреть на тебя, – заговорил дядя, ласковыми глазами оглядывая его. – Скажи, пожалуйста: усики себе отрастил! Каждое утро, чай, у парикмахера завиваешь?
– Нет, каждую ночь завертываю в папильотки, – отшутился племянник.
– А шапка эта, видно, новая форма лицейская?
– А то как же?
– Одобряю… Но ты, Александр, чего доброго еще простудишься! – спохватился Василий Львович и вытащил из-под себя мохнатое дорожное одеяло. – На вот, завернись.
– Благодарю вас. Но мне, право, не холодно.
– Не мудрствуй, сделай милость, и слушайся старших.
Собственноручно закутав племянника, как ребенка, в одеяло, он запустил руку в один из боковых мешков возка и достал оттуда бумажный сверток.
– Ты ведь, помнится, охотник тоже до барбарисовых карамелек? – сказал он. – Угощайся.
– А вы, дядя, меня все еще, кажется, за маленького считаете?
– Да вырос-то ты еще не ахти на сколько от земли…
– В дядю, видно, пошел – и телом, и духом.
– То есть по стихотворной части? «Лициний» твой, точно, очень недурен, но…
– Но никуда не годится? – перебил Александр. – Не будем лучше говорить об этом. Расскажите, куда вы так торопитесь, что даже не вышли из возка?
– Куда? – повторил Василий Львович и принял таинственно-важный вид. – Ты слышал, может статься… да нет! Где же тебе знать об этом!
– О чем?
– Об «Арзамасе».
– Да я о нем знаю, может быть, более вашего, дядя.
– Ого! От кого это?
– От Жуковского. Так вас, значит, выбрали тоже в члены «Арзамаса»?
Дядя зажал ему рот рукой.
– Молчок!
– От души вас поздравляю.
– Сказано: молчок! Еще рано поздравлять. До принятия в «Арзамас» всякий новобранец должен выдержать тяжкий искус…
– Василий Андреич ничего не говорил мне об этом…
– Потому что считал тебя недостаточно еще зрелым для того. И у меня только как-то невзначай с языка сорвалось. Но ты смакуешь ли, дружок, весь букет этого пункта: меня, былого сотрудника «Академических известий», якобы сторонника «Беседы», приглашают теперь в противный лагерь!
– Да какой же это противный вам лагерь, дядя, когда вы давным-давно дружите со всеми нынешними «арзамасцами»?
Василий Львович нетерпеливо зашевелился в своей шубе.
– Ничего ты, братец, не смыслишь! – проворчал он. – Коли «арзамасцы» – все милейшие люди, так как же не дружить с ними?
– А «беседчики», кроме разве личного врага вашего, Шишкова, – тоже ведь прекраснейшие люди? Так вы, стало быть, как говорится: и нашим, и вашим?
Василия Львовича не на шутку взорвало.
– Пошел вон! – крикнул он и толкнул в бок племянника.
– Вы гоните меня?
– Да, как видишь. Марш!
– Не шутя, дядя?
– Ну да! Будь здоров. Заболтался я с тобой.
– А с Левушкой вы так и не увидитесь? Его это, верно, огорчит.
– Гм… да. О нем-то я, признаться, забыл… Ну, что ж, поцелуй его от меня да отдай ему эти карамели.
– Целовать его я не стану, но карамели, извольте, отдам. Только лучше бы уж, право, вы сами, дядя, отдали ему; посидели бы в приемной, погрелись бы; а я велел бы подать вам стаканчик чаю.
Последний аргумент поколебал несколько решимость Василия Львовича.
– До Питера и то еще изрядный кончик: часа два с хвостиком, – соображал он.
– А чай у нас хоть и не первый сорт, но во всяком случае горячий, – подхватил племянник. – Позволите заказать?
– Быть по сему.
– И чудесно! Не успеете подняться по лестнице, как мы вас догоним.
Сделалось все, однако, не так живо, как он рассчитывал. Леонтий Кемерский (который не был еще тогда отставлен от должности обер-провиантмейстера) не без труда дал убедить себя подать чай в «непоказанное» место – в приемную. Младшего брата своего Александр также не сейчас разыскал. Когда братья наконец вошли в приемную, то остановились оба как вкопанные, а вслед за тем оба прыснули со смеху. Перед ними была немая картина: Леонтий с дымящимся стаканом чаю в руках, а перед ним свернувшийся калачиком на клеенчатом диване Василий Львович. От дороги и холода его здесь, в тепле, очевидно, распарило, и, не дождавшись племянников, он сладко заснул.
– Будить его или нет? – шепотом советовались меж собой братья.
Как бы в ответ с дивана донесся к ним густой храп.
– Пожалейте дядюшку, ваши благородия, – сказал Леонтий, – изморились небось путем-дорожкой; дайте им всхрапнуть часочек.
– Пускай его! – решил старший брат. – А ты, Леонтий, нас позовешь, когда он проснется?
– Беспременно-с; будьте благонадежны. Я тут, как у больного, продежурю-с.
Пододвинув к дивану стул для стакана, бывалый дядька накрыл последний блюдечком, чтобы чай не так скоро остыл; потом сам терпеливо уселся на отдаленный стул.
Не прошло четверти часа, как Леонтий впопыхах влетел в камеру старшего Пушкина.
– Пожалуйте-с, сударь! Ваш дядюшка уезжают.
– Уже?
– Да-с. Проснулись, выпили залпом-с стакан, да так заторопились, словно на пожар спешат.
Когда Александр сбежал во второй этаж, то застал там уже Левушку, который тщется уговаривал дядю хоть посидеть еще минутку.
– Ни секунды, дружочек, ни терции! – отвечал Василий Львович. – Семеро одного не ждут, а меня в Питере дважды семеро не дождутся.
– Сколько я дал бы, дядя, чтобы подсмотреть, как вас будут принимать в «Арзамас», – заметил Александр.
– Молчок! – цыкнул на него Василий Львович, грозя пальцем.
Долго еще по отъезде дяди молодой поэт наш уносился мысленно за ним, стараясь в своем пылком воображении воспроизвести всю сцену приема дяди в «Арзамас». Мы, не стесняемые ни пространством, ни временем, последуем теперь в действительности за Василием Львовичем.







