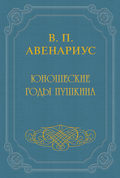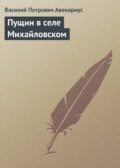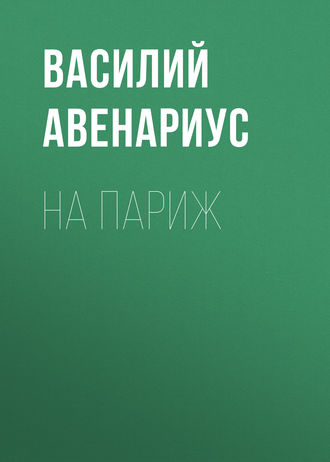
Василий Авенариус
На Париж
Глава шестнадцатая
Переход через Рейн. – Старый приятель. – Новая Жаннад'Арк
* * *
Карлсруэ, декабря 1. С родного Дона ли землица с молитвой помогла моему донцу, или же он просто за сутки отлежался, но на другое утро встал уже как встрепанный… Прощаясь с нашими вейнсбергскими хозяевами (с молодыми, ибо старик все еще «неравного брака» дочери переварить не мог и глаз не казал), я вынул было кошелек, чтобы рассчитаться; но Лотте руки за спину спрятала.
– Нет, нет! – говорит. – Ничего мы от вас не возьмем. Г-н барон столько для нас с Хансом сделал, что мы останемся вечными его должниками.
Хотя здесь, в Карлсруэ, я и остановился в «Золотой овце», которую мне Хомутов еще во Франкфурте назвал, но самого его уже не застал: он оставил мне только записку, что спешит дальше в Раштат – квартиру для государя заготовить. Оставаться мне здесь не для чего; я еду туда же. Как-то туда еще Волконский к моему докладу о Мамонове отнесется?
* * *
Раштат, декабря 3. Князь выслушал меня то морщась, то кусая губы: история с насильственным браком в Вейнсберге и его, видно, немало позабавила.
– Ответа от графа Мамонова вы, значит, так мне и не привезли? – сказал он, а когда я стал оправдываться, он перебил меня: – Хорошо, хорошо. Вы-то тут ни при чем. Хомутов передал мне ваше желание остаться при штабе ординарцем…
– Был бы, – говорю, – глубоко благодарен вашему сиятельству… Как бы только атаман мой не разгневался, что у меня сбежал один из его донцов!
– Ну, об этом мы графу Платову напишем. А другим казаком вы довольны?
– Весьма доволен. Он ко мне тоже так привязался, что, пожалуй, неохотно даже расстанется со мной.
– Так возьмите его себе денщиком. И об этом тоже припишем.
* * *
Декабря 5. Причисление мое ординарцем состоялось с переименованием в корнеты, и бумага об этом к графу Платову отправлена. Но дела определенного у меня пока еще нет. Сагайдачный приютил меня у себя; самого же его я почти не вижу: со свитскими по-прежнему хороводится. И сижу я один-одинешенек у окошка, за которым метель метет, и злоблюсь, как пес на цепи, и на метель, и на свое безделье, и на двоедушие Шварценберга. Из-за бесплодной канители с Наполеоном затянул он вторжение союзных войск во Францию, а сам, не посоветовавшись даже с союзниками, двинул своих цесарцев в нейтральную Швейцарию. Государь негодует, но с главнокомандующим нельзя не считаться. Приходится и нам идти на Базель; но Шварценбергу объявлено, что 1 января 1814 г., т. е. ровно через год по переходе русской армии через германскую границу мы, во всяком случае, перейдем и Рейн.
* * *
Швейцария, Лёррах, декабря 12. Пристроился я здесь в полумиле от Базеля; императорская же квартира в самом Базеле, где есть ведь и мост для перехода во всякую минуту через Рейн.
* * *
Декабря 16. Государь терпение потерял, и всем трем союзным армиям: Главной, Силезской и Северной, – приказ отдан идти за Рейн. Гвардию же поведет сам государь в день Нового года.
Вот выписка из Высочайшего приказа, который будет прочитан всем русским полкам:
«Воины! Мужество и храбрость ваша привела вас от Оки на Рейн… Мы уже спасли, прославили отечество свое, возвратили Европе свободу ее и независимость. Остается увенчать великий подвиг сей желаемым миром… Неприятели, вступя в средину царства нашего, нанесли нам много зла, но и претерпели за оное страшную казнь. Гнев Божий поразил их. Не уподобимся им: человеколюбивому Богу не может быть угодно бесчеловечие и зверство. Забудем дела их; понесем к ним не месть и злобу, но дружелюбие и простертую для примирения руку»…
Истинно христиански-царские слова!
1814 г.
* * *
Базель, января 1. Переход гвардии через Рейн действительно ныне, в Новый год, совершился, несмотря на отчаянную погоду; пронизывающий ветер и мокрый снег. Во главе войск ехал через мост сам государь в одном мундире без плаща: так, с юных лет еще, он себя против всякой непогоды закалил. Пропустив на том берегу мимо себя все полки парадным маршем, он возвратился опять в Базель и нагонит армию уже во французском городе Лангре. По пути завернет он еще в Монбельяр, где императрица Мария Феодоровна провела свою юность безмятежную и счастливую. Как не воспользоваться сыну случаем посетить ту Аркадию, о коей царица-мать, говорят, и доселе с умилением вспоминает!
* * *
Лангр, января 8. При переходе сюда за двести верст от Базеля войскам нашим пришлось немало-таки претерпеть и от занесенных снегом дорог, и от недостатка продовольствия. Здешнее население живет, не в пример германскому, бедно, кормится плохо. В городах жители от нас, неприятелей, прячутся; а в помещичьих усадьбах и замках остались одни старые управители да ключницы, которые диву даются, что мы, русские, с ними по-человечески обходимся, не грабим, не поджигаем.
В ободрение духа воинского новый «певец во стане русских воинов» проявился, некий капитан Батюшков, воспевающий переход наш через Рейн. Сперва чудятся ему проходящие этими же местами римские легионы и переплывающий Рейн Юлий Цесарь, потом крестоносцы, трубадуры, наконец, и современный Аттила, бич рода человеческого, Наполеон.
И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,
Под знаменем Москвы с свободой и громами,
Стеклись с морей, покрытых льдами,
От струй полуденных, от Каспия валов,
От волн Улей и Байкала,
От Волги, Дона и Днепра,
От града нашего Петра,
С вершин Кавказа и Урала!..
Мы здесь, о Рейн, здесь! Ты видишь блеск мечей!
Ты слышишь шум полков и новых коней ржанье,
Ура победы и взыванье
Идущих, скачущих к тебе богатырей.
Взвивая к небу прах летучий,
По трупам вражеским летят,
И вот, коней лихих поят,
Кругом заставя дол зыбучий…
Спускается ночь; войска располагаются биваками:
Костры над Рейном дымятся и пылают,
И чащи радости сверкают…
Да, блаженны господа стихотворцы, которые от земных невзгод взлетают на Пинд, чтобы любоваться оттуда юдольным миром сквозь увеличительное стекло своей собственной фантазии, в назидание нам, простым смертным, что везде и во всем есть тоже своего рода красота и утеха, умей их только разглядеть и оценить.
* * *
Января 12. Два дня уже, что все три монарха со своими штабами здесь, в Лангре. Опять идут рассуждения о том, продолжать ли еще воевать, или, не проливая крови, идти на мир; а в передовой цепи, как и прежде, ожидает решения Наполеонов неизменный переговорщик Коленкур.
* * *
Января 14. По приглашению государя прибыл его старый воспитатель, швейцарец Лагарп. По часам беседуют с глазу на глаз.
* * *
Января 15. Решено воевать, но в то же время для переговоров о мире собрать особый конгресс в Шатильоне. Нашим уполномоченным, однако ж, будто бы секретный наказ дан – отнюдь не торопиться, а выжидать дальнейшие военные действия. Еще бы! Союзных войск теперь 400 тысяч, а у Наполеона всего-на-все 120 тысяч, да и из тех-то сколько новобранцев. Блюхер не стал бы попусту с ним и слов тратить. У него на все рассуждения один ответ: «Дер Керль мус херунтер!» («Долой, дескать, молодца!»), все равно, что у Катона про Карфаген: «Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!»
* * *
Января 16. Какая встреча! Истинно, что гора с горой не сойдется, а человек с человеком столкнется. Поутру присылает за мной Волконский.
– Главная квартира Наполеона, – говорит, – находится теперь в Шалоне. Оттуда он захочет, конечно, перерезать нам путь на Париж. Так надо выяснить, не подходят ли к нему еще подкрепления с юга. Возьмите же казака и сделайте разведку в сторону Дижона.
Казака искать мне было недолго: кликнул я моего Маслова и – гайда!
Сделали мы этак то на рысях, то в карьер, верст двадцать, – ни единого вооруженного неприятеля. А ветер ледяной, до костей пробирает. Порешили отогреться в ближайшем жилье.
Вон и жилье. Подъезжаем. На дворе человек на деревяшке – инвалид, значит, – лошаденку в одноколку запрягает. Услышал нас – обернулся. Гляжу я ему в лицо – глазам не верю: денщик майора Ронфляра Пипо, которого еще прошлой осенью в Москве из виду потерял.
– Ты ли это, Пипо?
И он с меня глаз не сводит. Узнал тоже.
– Андре! – воскликнул; но тотчас поправился: – мосье Андре… Вы ведь, я вижу, офицер?
– Корнет, да. А ты нас и не испугался, как другие земляки твои?
– Точно я вас, русских, не знаю! Не австрийцы, слава Богу; даром обижать не станете.
– Так не пустишь ли ты нас к себе немножко погреться?
– Милости просим, пожалуйте! Очень рад. И с женой своей вас познакомлю.
– Так ты, Пипо, женат?
– О! Не жена она у меня – клад; ужо расскажу вам, как Бог нас свел.
– Но ты только что куда-то ехать собирался?
– Да, в город за покупками для хозяйства. Но мне не так уж к спеху. Тереза! Где ты? Принимай гостей!
И входит к нам чернобровая молодица, роста богатырского – на полголовы выше мужа и с пушком над губой. Представляет меня ей Пипо: «Рассказывал, мол, уже тебе про приятеля моего московского Андрё. А вот, вишь, офицером стал».
Она же, подбоченясь, из-под насупленных бровей на меня и Маслова искоса огненные стрелы мечет.
– Да ведь они русские? – говорит.
– Ну да…
– Стало быть, воевать с нами пришли? А ты их в дом к нам пускаешь!
Муж ее по плечу гладит; на цыпочки приподнявшись, в щеку целует.
– Ну, ну, моя дорогая… Ведь, как ни как, с мосье Андрё мы сколько времени душа в душу жили…
Все втуне! Отвела с плеча его руку, что-то под нос буркнула и вон пошла, дверью хлопнула. Пипо – за нею. Немного погодя возвращается, красный до корней волос от конфузии.
– Жена моя, – говорит, – ярая патриотка. Любимый брат у нее, изволите видеть, в позапрошлом году с великой армией к вам в Россию ушел, да так и не вернулся; погиб, надо быть, либо в сражении, либо от морозов, как сотни тысяч наших. Ну, вот, она о русских и слышать теперь не может.
– Так лучше уж нам, – говорю, – от тебя убраться…
– Нет, нет, зачем! – говорит. – Я ее урезонил. Сейчас подаст на стол, что от обеда осталось. Мы-то уж отобедали. Присядьте, не побрезгайте.
Присели. Спрашиваю я его, в каком деле ноги он лишился. Вздыхает.
– А еще в августе месяце, – говорит, – под Дрезденом.
– Там же, – говорю, – где и у генерала Моро ногу оторвало.
– Моро? Эге! Так, значит, верно…
– Что верно?
– Да стою я, знаете, на редуте у своего орудия. Подходит тут сам император наш с генералами. Дождь так и льет, так и хлещет; у императора шляпа, намокши, до плеч нависла. А он как ни в чем не бывало подзорную трубу свою на тот берег наводит, вас, неприятелей, на высотах высматривает.
– Ваше величество, отойдите дальше! – упрашивают его генералы.
А он:
– Та пуля, что меня уложит, еще не отлита. Берет из жилетного карманчика понюшку табаку и опять за свою трубу. Да вдруг как вскрикнет:
– Смотрите, господа: вон Моро в зеленом мундире! Ну, фейерверкеры, покажите-ка себя!
И грянул залп из 16-ти орудий. Когда дым разошелся, на высотах ваших никого уже не было. После уж в лазарете я слышал, что на той самой горе, где стояли Моро с Александром, какой-то крестьянин-саксонец на другой день оторванную ногу в сапоге поднял. Смотрит: сапог – первый сорт, генеральский. Отнес с ногой к своему королю, а король императору переслал. Император сапожников позвал, и объявили те в один голос, что сапог не английской работы и не французской, скорее американской.
– Ну, значит, – говорит император, – нога ничья как изменника моего Моро.
Так оно и вышло.
– Да какой же он изменник! – говорю я на то. – Моро был изгнанник по воле самого Наполеона.
– Коли так, то не нам его судить. И тогда же он и помер?
– Да, после ампутации.
– Мир его праху! И мне бы, пожалуй, не выжить, кабы не жена. В Дрездене меня с другими калеками на повозку сложили и с транспортом на родину отправили. Не доезжая до Лангра, ось нашей повозки пополам; лошадей выпрягли, и весь транспорт пошел вперед, а нас, раненых, на повозке оставили, да так про нас и забыли. Товарищи мои калеки, здоровее меня, на деревяшках своих дальше поплелись. А у меня рана опять открылась, и наземь слезть не могу. И послал тут Господь Бог мне своего ангела – мою Терезу! Покойный отец ее тогда на смертном одре лежал. Отвезла она только что в Лангр доктора, что лечил отца, и домой возвращалась. Увидала меня в сломанной повозке, окликнула, да как узнала в чем дело, взяла меня, как малого ребенка, на руки (силачка ведь она у меня!), да в свою тележку переложила. Отец ее и месяца потом не прожил, а меня она выходила и…
– И женила на себе?
– Подлинно что так. У меня у самого-то ни кола, ни двора, а у нее вон какой домик, да и огород, виноградник, лошадка, корова…
– Словом сказать, Пипо, ты долей своей совсем доволен?
– Да как же нет! Что было бы со мной, инвалидом, без моей Терезы? Так вы, мосье Андре, сделайте милость, уж не обессудьте ее за патриотизм.
Тут вошла и сама патриотка, по-прежнему мрачная; губы сжаты, глаза потуплены, взглядом не удостоит. На стол накрыла, графин вина принесла и каравай хлеба; потом на сковородке яичницу-глазунью. Поставила перед нами так, точно: «Нате, мол, жрите, окаянные!» Ни слова не вымолвила; сложив на груди руки по-наполеоновски, за стулом мужа стала.
– Что же ты, Тереза? – говорит Пипо. – Села бы тоже.
– И так постою.
Стоит за ним, как часовой на часах, не проронить бы ничего из разговора врагов с мужем.
Спросил я его про его господина, майора Ронфляра; погиб с тысячами других, оказалось, при переправе через Березину. Рассказал и сам я ему про бедного лейтенанта д'Орвиля, как на брошенном французами биваке последний вздох его принял. Стали затем вдвоем наше московское житье-бытье вспоминать. И дернула же меня нелегкая подшутить над ним, нехорошо подшутить, не по-приятельски. Шутить шути, да людей не мути.
– А помнишь ли еще, Пипо, – говорю, – как мы с тобой в шашки на Париж играли?
Вспыхнул весь, как огонь, на стуле заерзал, на жену с опаской оглядывается. Она же видит, что я над муженьком ее дурачусь, суровым этаким голосом вопрошает, а у самой углы рта подергивает:
– Как так на Париж?
– А так, – говорю, – да и поведал ей (простить себе того не могу!), как он в Москве всегда, бывало, меня в шашки обыгрывал, но как вот однажды, уже отдав три лишние шашки, я похвалился, что все же на сей раз не токмо что партию выиграю, но и последнюю его шашку в угол запру. А он мне, дескать, на то: «Это столь же верно, как то, что вы, русские, будете у нас в Париже». – «Посмотрим», – говорю. И он: «Посмотрим! Посмотрим!» Да в конце-то концов, неким чудом, я и вправду у него все шашки забрал до последней, которую в угол запер. «Ожидайте же нас в Париже!»
Рассказываю я это мадам Терезе да посмеиваюсь (глупо! Бессердечно! Сам я теперь Это понимаю):
– И вот, мадам, предсказание-то мое сбывается: не нынче-завтра мы будем в Париже.
Владыко многомилостивый! Что сталось с моей патриоткой! Хвать со стола графин и, как бомбой, череп бы мне раскроила, не выхвати у нее муж из руки военного ее снаряда. Очнуться мы с ним не успели, как ее и след уже простыл. Уставились мы с ним друг на друга, рты разинув, и слов даже не находим.
Вдруг со двора стук колес. Пипо с места сорвался, опрометью на двор, дверь за собой закрыть времени себе даже не дал.
– Куда, куда, Тереза? – кричит. – Воротись, воротись!
Выглянули мы с Масловым из окна: хозяйская лошадь с одноколкой по дороге уже вскачь несется, а Тереза, стоя, правит и бичом погоняет.
– За помощью, знать, против нас, ваше благородие, – говорит Маслов. – Нет, матушка, не уйдешь!
Выбежал тоже из дверей. Я – за ним. А он уже скок на своего коня и вихрем за одноколкой.
Я – на улицу. Пипо там тоже вслед глядит, руки ломает:
– Убьет ее казак! Убьет!
– Не убьет, – говорю. – Женщин мы не убиваем.
– Да разве она женщина, как другие? Она та же Жанна д'Арк!
«Или наша старостиха Василиса, – думаю я про себя, – того же закала».
А мой казак ее понемножку уже настигает. Но тут одноколка заворачивает за пригорок: туда же и Маслов. Мы с Пипо все еще стоим за воротами, глаз с дороги не сводим.
– О, Боже мой, Боже мой! – бормочет бедный муж. – Увижу ли я ее еще живою?
– Не беспокойся, – говорю, – сейчас вернутся.

Новая Жанна д'Арк и казак
И точно, оба показались опять из-за пригорка; но едут уже не вскачь, а шагом. Тереза сидит в своей одноколке, голову понурив, а Маслов на своем коне рядом с ее лошадкой и в поводу оную держит. Пипо вздохнул облегченно, да и у меня, правду сказать, камень от сердца отвалился. Одноколка еще не остановилась, как Пипо подбежал – оттуда свою Жанну д'Арк принять. Но она его оттолкнула, соскочила сама и в дом без оглядки: куда уж зазорно ей было и стыдно.
Маслов вслед ей с усмешкой:
– Залезла мышь в кувшин, а кричит: «Пусти!» Да что, ваше благородие, не повернуть ли нам восвояси? Опричь баб, никаких неприятелей в этой стороне не видать.
– Верно, – говорю, – засветло еще хоть вернемся. И распростились мы с Пипо, пожелав друг другу всего лучшего.
Тем и закончилась моя разведка.
Глава семнадцатая
Военные действия. – Сдача Соассона. – Бриеннская находка
* * *
Шомон, января 17. В императорскую квартиру в Лангре прискакал ночью из Шомона адъютант Шварцен-берга. Наполеон, оказалось, перешел в наступление, угрожая Силезской армии под Бриенном, тогда как Главная наша армия подвинулась еще только до Бар-сюр-Об. Ночь была бурная; тем не менее государь сейчас собрался к Шварценбергу в Шомон, и мы, штабные, понятно, тоже за ним. Только что идут совещания о том, как поддержать Блюхера, коему придется под Бриенном первый удар принять.
* * *
Февраля 6. Третья неделя, что не раскрывал дневника, рука не подымалась!
Под Бриенном Наполеон не пожал, по крайней мере, лавров: Блюхер со своей Силезской армией дал ему решительный отпор и не мог нахвалиться геройским поведением русских полков. Город, почти весь разрушенный французскими бомбами и пожаром, к концу сражения остался за нами. Сам Блюхер занял Бриеннский замок над городом. Но тут от Шварценберга пришло приказание – на соединение с Главной армией отступить к Бар-сюр-Об и – отступили!
При сей оказии у наших гусар вышла еще предосадная ошибка. За темнотой во время ночного боя они наших союзников-виртембержцев не распознали и несколько человек зарубили, хотя у тех и были на киверах такие же зеленые ветки. Дабы сего впредь не случилось, вышел приказ по всей армии – во время битвы левую руку выше локтя повязывать себе белым платком.
А после Бриенна следовал для союзников уже целый ряд поражений. То доходили мы до Троа, то отходили назад, то снова наступали до Шомона. Почти все удары Шварценберг заставлял выносить Блюхера, коего Силезская армия, таким образом, обратилась как бы в Главную, а Главная – во вспомогательную. Но в сражении австрийцы всякий раз первые же показывают тыл; а в беззащитных городах, как и раньше, ведут себя разбойниками, грабят лавки и частные дома. Зато при возвращении их в тот же город, жители на улицах каменьями в них бросают; русских же никогда не трогают. Наши солдатики, попав в Шампанью, если чем прельщаются, так вином. Каким-то верхним чутьем находят они зарытые в огородах бочки с отменным разливом 1811 года – «вэн де ля комет» (по комете того года), и привозят их в свой полк на общее пользование.
Военачальники наши в счастливую звезду Наполеонову уверовать опять готовы. Один лишь государь наш по-прежнему духом не падает. Особенно же ободрила его, да и всех нас, весть о сдаче Соассона, привезенная адъютантом барона Винценгероде Пашковым.
После двух отбитых штурмов и безуспешного обстрела города артиллерией, егеря генерала Чернышева притащили к городским воротам два толстых бревна и, раскачав их, как таранами проломили ворота; после чего с криком «ура!» ворвались в город. Следом за ними влетели и уланы Сухтелена. При этом вышел презабавный случай. Около моста через реку Эн перед Соассоном расположен целый ряд мельниц. У ближайшей мельницы стоял табун ослов. Когда первый взвод уланов пустился рысью через мост, грохот деревянной настилки моста под конскими копытами так перепугал ослов, что те всем табуном с обычным своим ужасным ревом помчались через дорогу наперерез остальным уланам. Тут и уланские лошади, никогда не слыхавшие еще такого рева, тоже испугались и понесли. Против столь бурного натиска храбрый крепостной гарнизон не устоял и разбежался врассыпную.
Сам же корпусный командир во время всего дела (как нехотя проговорился Пашков) «отдыхал» со своим штабом в некотором отдалении под стогом сена. Только когда ему доложили, что Соассон сдался, он двинулся тоже в город, где на базарной площади его уже ожидал Чернышев с городским мэром, чиновниками и 3600-ми пленными, в числе коих было и три генерала.
* * *
Троа, февраля 8. Чернышев за свой молодецкий натиск при Соассони произведен в генерал-лейтенанты; барону же Винценгероде его отдых под стогом сена ничего не принес: по усам текло, а в рот не попало.
* * *
Февраля 10. Платов со своими казаками взял штурмом Немур.
* * *
Февраля 11. Часа два уже, как я возвратился из Бриенна, а все еще не очувствовался.
Дело в том, что при передвижении союзников через этот город, тамошний замок – шато-Бриенн – мало тоже пострадал, да и не столько от орудийного огня, сколько от разгрома войсками. Австрийцы всю вину на казаков и баварцев сваливают, баварцы на казаков и австрийцев, а казаки на австрийцев и баварцев. Кто их разберет! Как бы то ни было, наименее библиотека потерпела – библиотека огромная и драгоценная. Только несколько французских романов взято нашими офицерами. Разговорились мы вчера об этом с Муравьевым.
– Вы, Пруденский, завидуете, что я запасся там чтением? – говорит Муравьев. – Так вот вам случай сделать то же: подполковнику Сахновскому поручено отобрать из той же библиотеки все военные сочинения для главного штаба в Петербурге. Попроситесь к нему в помощь.
Я так и сделал.
– Да вы свободно читаете по-французски? – спросил меня Сахновский.
– Свободно, – говорю. – Знаю и по-латыни.
– Тем лучше; есть там и латинские сочинения. А из моих офицеров ни один, кажется, не занимался латынью.
И вот, приезжаем с подполковником на место. Шато-Бриенн лежит живописно на горе; на стенах там и сям лишь следы обстрела.
Управитель замка, почтенного вида старичок, впустил нас не весьма охотно.
– Замок разорен, – говорит. – Все, что поценнее, уже расхищено.
– Прибыли мы сюда не для расхищения, – сухо ответил ему Сахновский. – Интересует нас одна библиотека.
– Да и за библиотеку, мосье, я ответствен…
– Перед кем? Кто владелец замка?
– Владелец?.. По-настоящему-то должен бы быть им молодой граф Шарль-Луи Ломени де Бриенн, племянник покойного кардинала графа Этьена-Шарля…
– Ну, а на самом-то деле кто теперь считается владельцем?
– Теперь-то… казна. У кардинала (царство ему небесное!) вышли нелады с его святейшеством римским папой… ну, его и сменили… замок у него отобрали…
– Кто отобрал? Наполеон?
– Нет, еще директория. Но император Наполеон не раз потом здесь останавливался…
– Стало быть, как-никак, замок в настоящее время – собственность французского правительства, и мы, неприятели, по праву войны можем распоряжаться в нем как хотим. Но я-то прибыл сюда, как сказано, только из-за библиотеки. Проведите же меня туда.
Старику-управителю ничего не оставалось, как повиноваться. До библиотеки нам пришлось пройти через целый ряд роскошных покоев. Разгром был полный: мебель поломана, портьеры сорваны, зеркала расколочены, горки для золотой и серебряной посуды опустошены, каминные часы, севрский фарфор, статуэтки вдребезги разбиты и по полу разбросаны… Глядеть горько и больно!
– Что за варварство! – возмутился и Сахновский. – И почему вы, г-н управитель, этого с глаз не уберете?
– Ничего не уберу, ни одной вещи! – пробурчал старик. – С меня же ведь потом спросят, куда что девалось. Пусть видят, чьих рук это дело. А знаменитая коллекция натуральной истории покойного кардинала – что с нею сталось!
И в голосе его прорвались уже слезы.
– Ее тоже расхитили? – спросил Сахновский.
– Добро бы расхитили, а то надругались! Да вот сами увидите; пожалуйте за мною.
И то ведь, когда он провел нас к кабинету натуральной истории, мы с подполковником на пороге остолбенели. Огромный зал; посередине – красного дерева ящики для минералов; по стенам – такие же полки для чучел птиц и животных, но весь пол кругом кусками минералов и растерзанными чучелами усыпан.
– Ну, скажите на милость, мосье, для чего они все это перепортили и по полу раскидали? – горячился старичок. – А этот крокодил, – чего стоило с берегов Нила сюда его доставить! Надо же было этим варварам хвост ему оторвать и в пасть сигарой засунуть!
– Остроумие невежд, – что с них взыскивать? – отозвался Сахновский, которому, однако, как и мне, как будто не по себе стало. – А библиотека где же?
В библиотеке оказался тоже немалый беспорядок. В большом круглом зале в два света книги по стенам в два яруса, внизу – в высоких шкафах, а наверху – на открытых полках до самого потолка. Но множество книг в богатых сафьяновых переплетах с золотым обрезом из стройных рядов уже повыбрано и на полу валяются.
– Все ваши же офицеры!.. – не утерпел указать на них смотритель.
– Благодарю вас, мосье, – коротко отрезал Сахновский. – Больше мы в вас не нуждаемся.
И сам притворил за ним дверь.
– Экое ведь, – говорит, – безобразие! И назад-то не потрудились поставить. Однако во что мы с вами отобранные книги укладывать будем? Хоть бы мешки с собой захватили…
– А что, подполковник, – предложил я ему, – на мебели тут прочные чехлы; в них бы и уложить?
– И то правда. Я вот займусь разборкой книг в этих шкафах, а вы приготовьте чехлы; потом наверху разберете книги на полках.
Снял я несколько чехлов с диванов и кресел; часть их отдав подполковнику, с остальными полез по витой лестнице в верхний ярус.
Начал я просмотр с нижних полок. Ученые все сочинения первой половины XVIII века, переплетенные уже не в сафьян, как в нижнем ярусе, а в свиную кожу. Выше – книги XVII века. Просмотрел, кое-что отложил; поднялся еще выше по приставной лесенке. Там, однако же, уже не печатные книги, а рукописные фолианты, так же в переплетах; но переплеты толстейшие, деревянные, на корешках только кожей обтянуты. Как стал я тут доставать тяжеловесные фолианты, меня целым облаком пыли окутало, и я расчихался.
– Что это с вами, корнет? – окликнул меня снизу подполковник.
– От пыли, – говорю, – на верхних полках здесь одни старинные рукописи; их годами не обметали. Стоит ли их, вообще, тревожить?
– Приказано все просмотреть; так рассуждать не приходится.
Делать нечего. Стал я пыльные рукописи перебирать одну за другою. Добрался, наконец, и до самой верхней полки. Вытаскиваю фолиант. Да неловко, видно, захватил: за ним сами собой уже вырвались несколько других и через перила грохнулись вниз к подполковнику.
– Что это вы, корнет, гранатами в меня пускаете? – кричит он мне оттуда не то сердито, не то шутливо.
– Виноват! – говорю и залезаю рукой в глубину полки до самой стенки: не завалилась ли туда еще какая рукопись?
И вдруг под пальцами у меня как бы булавочная головка. Нажал на нее – и в стенке с легким треском растворилась дверца.
Потайной ящик! Засунул туда руку, – столбики в бумажных свертках.
«Неужто золото?»
Достал один столбик, развернул, – так и есть: все золотые! Притом не наполеондоры, а двойные луидоры с портретами покойных королей Людовиков XV и XVI. Значит, положены сюда еще прежним владельцем замка, кардиналом графом Ломени де Бриенном. А если так, то нынешнее французское правительство на эту частную собственность не имеет никакого права; надо возвратить все законному наследнику – племяннику кардинала. Но кто это сделает? Мое начальство? Пойдет бесконечная переписка; меня же еще, чего доброго, заподозрят в утайке некоторой суммы…
Всего вернее самому весь клад из рук в руки передать законному собственнику.
Все это молнией пронеслось у меня в голове, и пять минут спустя все свертки до последнего исчезли в одном из чехлов. А снизу доносится уже голос Сахновского:
– Что, корнет, скоро вы будете готовы?
– Сейчас кончаю.
Тихонько притворил опять дверцу в стенке и заставил ее фолиантами; отобранные раньше книги упаковал в пустые чехлы и один за другим снес их вниз.
– Покажите-ка сюда, – говорит Сахновский, – все ли годится? А сами не возьмете ли чего-нибудь для чтения?
– Пару старых романов, – говорю, – я позволил себе уже отложить. Да хотелось бы взять еще на память кое-что из минералов…
– Берите, молодой человек, не стесняйтесь: все равно хозяев им уже нет.
Пошел я в кабинет натуральной истории, выбрал там несколько камней покрасивее и – опять в библиотеку, наверх, к своему чехлу с наполеондорами; уложил туда камни, сунул еще в придачу пару книг и плотно завязал, наконец, своим носовым платком, чтобы никому уже не вздумалось заглянуть внутрь.
Сахновский, в свою очередь, отобрал для главного штаба такую уйму книг, что пришлось нанять три подводы. Пока те нагружались, я подошел к управителю, который молча, но с сокрушением, наблюдал за погрузкой.
– Позвольте спросить: как вы назвали по имени племянника кардинала графа Ломени де Бриенн? Шарль-Луи?
– Шарль-Луи, – подтвердил он. – А вам, мосье, на что?
– Да, может, доведется еще встретиться в Париже. Ведь он живет в Париже?
– Не умею вам сказать. Отец его, родной брат кардинала, был при короле Людовике XVI военным министром, но во время революции сложил голову на гильотине. Сына своего он успел еще отправить в провинцию…
– И этот сын его, вы уверены, единственный наследник покойного кардинала?
– Единственный. Но наследства-то после кардинала, как я вам уже докладывал, никакого не осталось!
«Опричь того, – мог бы я ему возразить, – что у меня в этом чехле!» Но, понятно, ни ему, ни одной другой душе не сказал ни слова.
Вернувшись назад сюда, в Шомон, я заперся у себя на ключ и, все наследство графа Шарля-Луи де Бриенна выгрузив из чехла на стол, принялся его пересчитывать.
Свертки были все одной величины, и в каждом заключалось по 100 двойных луидоров. Всех же свертков было 60, итого, значит, б 000 двойных луидоров! А так как цена каждому такому двойному луидору – около 12 рублей, то предо мною на столе 72 тысячи рублей, – просто ума помрачение, дух захватывает…
Ну, а что, как кто-нибудь пронюхает, что у меня здесь такой капитал? Долго ли ограбить? И где мне сейчас собственника отыскать? Вот навязал себе обузу!