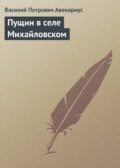Василий Авенариус
На Париж
Глава двадцать вторая
Петербургские встречи. – Сватался, да и спрятался
* * *
Петербург, Июля 6. С самого Парижа не раскрывал дневника. Поход ведь благоуспешно окончен, Европа умиротворена.
В Толбуховку тоже заглянуть не довелось. Но сегодня две свежие вести сами на бумагу просятся. Первая весть: государя ожидают из Англии уже на днях, и готовится ему здесь подобающая встреча, коей как бы завершится победоносная кампания.
Вторая весть: Варвара Аристарховна, в Толбуховке, по муженьке стосковавшись, сюда же, в Питер, с отцом едет. Мало того: едут с ними и Елеонские, батюшка с Иришей, – благо коляска дорожная четырехместная; никто из них ведь, кроме Аристарха Петровича, невской столицы еще не видал. Он с дочерью в казенной квартире у стариков Шмелевых остановится (где и для меня уголок уже нашелся,) Елеонские – у первого здешнего оперного певца Самойлова, с которым в родстве состоят.
Как шибко бьется мое сердце! Пишу эти строки, а перо в пальцах прыгает и на бумаге мыслете выводит. Господи, Господи! Как-то еще мы с нею встретимся? И достанет ли у нас духу теперь же родителю ее открыться?..
* * *
Июля 13. Государь, прибыв из Царского Села, тотчас в Каменноостровский дворец проехал, отказавшись от всякой пышной встречи. Тоже, говорят, и в Англии было: ездила к нему отсюда депутация от государственного совета, сената да синода с адресом, коим просили его принять наименование «Благословенного» и разрешить выбить медаль и воздвигнуть памятник с надписью: «Александру Благословенному, императору Всероссийскому, великодушному держав восстановителю от признательные России». Он же, по присущему ему христианскому смирению, таковое предложение отклонил. Завтра, однако ж, волей-неволей придется ему присутствовать при благодарственном молебствии в Казанском соборе.
Со дня на день ожидаем мы наших толбуховцев, а их все нет, как нет! Уж не приключилось ли с ними чего дорогой?
* * *
Июля 14. Прибыли! Дмитрию Кирилловичу вчера, как и мне, от беспокойства дома не сиделось. И отправились мы с ним под вечер на Стрелку солнечным закатом полюбоваться; домой вернулись только в 10-м часу. Входим в столовую, а там за самоваром, вместе со стариками Шмелевыми, сидят еще двое: Аристарх Петрович и Варвара Аристарховна. У молодых супругов после долгой разлуки такая уж радость была, что и не описать. Меня первым заметил старик Толбухин и объятия раскрыл.
– А, г-н подпоручик и георгиевский кавалер! Где шататься изволили? Поздравляю, дружок! Человеком стал.
Тут ручку мне и дочка протянула, а сама улыбается.
– Чего ты, – говорит, – озираешься? Кого тебе еще надо? Успокойся: приехали тоже. Завтра увидитесь.
Хоть и отлегло у меня на душе, а ночью потом все же несколько раз просыпался: правда ли?
В Казанском соборе мы были еще до начала службы и то с немалым трудом на площади сквозь толпу несметную протолкались. В соборе тоже было уже полным-полно от генералитета, придворных дам и кавалеров. Но вот, с площади неумолкаемое «ура!» доносится, церковный хор торжественно заливается и, как бы внесенный в храм на тех звуковых волнах, появляется обожаемый наш монарх среди блестящей своей свиты. Но и ростом он и царственною величавостью возвышается над всеми окружающими, все взоры устремлены на него одного. Он же, в самого себя углубленный, никого как будто кругом не замечает; преклоняет колена, крестится, подходит и прикладывается ко кресту… И каждому, верно, как и мне, думается: что-то он должен чувствовать, благополучно в свое царство вернувшись по совершении принятого на себя, столь ответственного, мирового подвига?..
По окончании службы, мы, во избежание толкотни, вышли из собора одними из последних. А под колоннадой нас уже поджидают Елеонские, отец с дочкой.
Не знаю уж, кто из нас двоих больше смутился и обрадовался – Ириша или я. Словно косноязычные, мы оба в начале слов не находили, урывками что-то лепетали; зато глазами тем красноречивее объяснялись, украдкой взглядывая друг на друга. Ее батюшка, по счастью, разговором с другими о благолепии храма и всего богослужения был занят и на нас никакого внимания не обращал.
На углу остановились, прощаться стали.
– Как-нибудь вместе и достопримечательности столицы осмотрим, – говорит Аристарх Петрович о. Матвею. – Сегодня старые кости с дороги еще ломит, отдыха просят.
– А наши молодые кости уже отдохнули, – говорит Варвара Аристарховна. – Правда, Ириша?
– Ах, да!
– Прежде всего, – говорит Шмелев, – вам обеим надо на Неву посмотреть: такой красавицы-реки на всем Западе не найти; да и такого чудного памятника, как Петра Великого на Сенатской площади. Отсюда рукой подать. Не пойти ли сейчас, а?
– Вы, молодежь, ступайте, – говорит Аристарх Петрович, – а мы, старики, уж как-нибудь в другой раз.
И пошли мы четверо: впереди Шмелевы, а мы с Ири-шей следом. Ни им, молодым супругам, до нас, ни нам до них никакого дела. Идем вдоль по Невскому к Адмиралтейству, оттуда на Сенатскую площадь и к Неве. Чем и как любовались Шмелевы сказать не умею; я одной Пришей любовался. Как есть распустившийся розан.
– Как вы, Ирина Матвеевна, – говорю, – за эти полтора года похорошели!
Она еще ярче зарделась.
– А вы, – говорит, – ужасно подурнели!
Сама же меня в моей парадной офицерской форме такими искристыми глазками оглядывает, что с уст моих невольно срывается:
– Милая ты моя, ненаглядная! А она:
– Ч-ш-ш! Что ты! Что ты!
– Да чего уж скрывать-то? Мы можем хоть сейчас повенчаться: средства достаточные…
– Какие средства? Офицерское жалованье, верно, очень маленькое.
– Зато у тебя порядочный капиталец.
– У меня? Откуда? За мной из дому ничего не дадут.
– И не надо, потому что те заветные золотые, что ты дала мне на дорогу, «на черный день», принесли за полтора года недурные проценты: ни много, ни мало, 24 тысячи.
– Копеек?
– Нет, рублей и золотой же монетой.
– Быть того не может! Или ты в карты выиграл? Такие проклятые деньги не принесут счастья; я их не возьму, ни за что не возьму!
И она выдернула руку из-под моей, и светлые черты ее омрачились, точно солнышко за тучку спряталось.
– Какой ты, однако, кипяток! – говорю я на то. – Выслушай меня, а потом и суди.
И рассказал ей тут про находку мою в Бриеннском замке, про то, как выручил ею из беды сперва Сагайдачного, а затем и самого графа Ломени де Бриенна, и как тот в благодарность треть своего неожиданного наследства ей, нареченной моей, на приданое назначил.
По мере того как ей становилось все яснее, что моей вины никакой нет, и что подарок французского графа можно принять без всяких угрызений совести, личико ее также все более прояснялось, а к концу рассказа из лазурных очей ее на меня опять яркий луч солнечный брызнул.
– Славный ты мой, хороший! То-то я молилась Царице Небесной и денно и нощно…
– Так, значит, мне можно сегодня же переговорить с о. Матвеем?
– Сегодня же? Ах, нет, милый; дай мне сначала его немножко подготовить. Он ведь тоже против военных.
– Ну, так завтра.
– Не знаю уж, право…
– Нет, непременно завтра!
Варвара Аристарховна шла перед нами под руку с мужем. Последние слова наши услышав, она к нам обернулась:
– Что завтра? Вы оба никакого голоса не имеете: завтра мы отправляемся все в Эрмитаж.
Так душевная беседа моя с Иришей с глазу на глаз и оборвалась.
Только на прощанье она успела мне еще шепнуть:
– Приходи завтра пораньше и сперва меня вызови!
* * *
Июля 15. Все пропало! В Эрмитаж идти было решено в 11 часов. Поэтому к Самойловым я толкнулся уже спозаранку и попросил горничную вызвать мне Ирину Матвеевну.
– Да вы, – говорит, – не г-н ли Пруденский?
– Да.
– Так примет вас сам о. Матвей. Пожалуйте в гостиную.
Вот тебе и раз! Значит, говорила уж с ним, да не уговорила. И точно: выходит он ко мне не то чтобы сердитый, грозный, а печальный, огорченный.
– Здорово, торопыга. Прискорбно и тягостно мне говорить с тобою. Неладное ты с Иришей моей затеял, неподобное!
– Почему же, – говорю, – батюшка, неподобное? И в писании ведь сказано: «Недобро быти человеку единому»…
– Сказано-то сказано, да разве вы-то оба настоящие уже человеки? Малолетки великовозрастные, в куклы бы вам еще играть, а не ребят качать. Второе же и главное: Господу неугодно было дать мне родного сына, что мог бы меня в свое время заместить. А посему дочь свою не иначе в супружество отдам, как за такого же, как сам, служителя алтаря.
От сих жестоких слов кровь в голову мне бросилась, и я непочтительно крикнул:
– Так вы дочери вашей не любите по-христиански, не желаете ее счастья?
Он же, голоса по-прежнему не возвышая, на то сухо:
– Не забывай, с кем говоришь. Оттого-то именно, что так люблю ее, единое мое детище, я, памятуючи Страшный Суд, и не отдам ее за человека, коего руки обагрены кровью, а кровь взывает к небу о мщении.
– Да разве я кого злонамеренно убивал? Помилуйте! Себя я, правда, не раз под вражеские пули и сабли подставлял, доблестно тем исполняя долг свой; сам тоже раны врагам наносил – раны не смертельные; но буде мне суждено бы было кого и до смерти убить в честном бою за царя и отечество, то совесть моя от той крови осталась бы незапятнанной…
– Да Георгия-то на тебя за что навесили?
– За храбрость.
– А что такое ваша воинская храбрость?.. Ну, да мы – люди разных толков, говорим на разных языках. А об Ирише моей забудь и думать! Спрос не грех, отказ не беда. Доколе мы с нею здесь, в Питере, еще пребываем, тебе с нею уже лучше и не встречаться.
Меня вконец пришибло.
– Воля ваша, – говорю. – Но как же, батюшка, быть теперь с ее приданым от французского графа? Ведь она, чай, о нем тоже вам сказывала?
Рукой отмахнулся.
– Господь с ними, с этими французскими деньгами! Нам их не нужно; и так обойдемся.
– Да ведь даны-то они были, батюшка, не мне самому, а моей нареченной…
– Женишься раз на другой, – вот ей и приданое готово.
– На другой я никогда уже не женюсь!
– Ну, так на благое дело, какое ни на есть, их пожертвуй, а то просто твоему графу в Париж обратно отошли. Нас с Иришей только от них избавь. Нечего нам с тобой еще праздные слова тратить. Будь здоров и попусту не горюй.
Благословил еще меня и до дверей проводил.
«Попусту не горюй!» Да что у меня сердце-то деревянное, что ли, или каменное?
Пишу эти слова, а сам от слез букв не различаю: из глаз на бумагу капают. Совсем разнюнился. Вот тебе и георгиевский кавалер!
Глава двадцать третья
Павловский праздник. – «Горь-ко! Горь-ко!»
* * *
Июля 18. Три дня уже, что не токмо не видел, но ни словечка о ней и от других не слышал; точно все нарочно воды в рот набрали. Просто отчаянность находила! Сегодня, однако ж, за столом Варвара Аристарховна при мне, точно для того чтобы я слышал, говорит мужу:
– А Ириша-то с воспитанницей Самойловых, Серафимой или Фимочкой, как ее называют, до чего подружилась! Та театральное училище уже кончила, и голос у нее тоже замечательный. Императрица Мария Феодоровна ее уже слышала и выразила желание, чтобы она в празднике тоже участвовала, который в Павловске устраивается по случаю возвращения государя из похода.
– Но ведь государь, кажется, уклоняется от всяких таких чествований? – говорит на то Дмитрий Кириллович.
– Вообще-то да; но тут отказаться ему уже невозможно, чтобы не оскорбить материнского сердца государыни.
– А у самой Ириши тоже ведь голосок премилый, – Аристарх Петрович заметил. – Это ее с Фимочкой так и сблизило. Вместе теперь распевают куплеты, приготовленные для праздника.
Сижу я тут же за столом, все эти речи слышу, а сам про себя думаю: «Ах, ах! Я-то вот грущу-грущу, убиваюсь, а она, вишь, как пташка лесная, куплеты беззаботно распевает»…
* * *
Июля 23. Вчера, в день тезоименитства императрицы Марии Феодоровны, в Петергофе было большое народное гулянье. Шмелевы, собираясь туда, меня с собой зазывали; но я отговорился нездоровьем: не то на уме и на сердце. А нынче наведался ко мне Сагайдачный.
– Ну, братец, – говорит, – прогадал же ты! Помнишь еще фонтаны в Версале?
– Как, – говорю, – не помнить. Красота неописанная, сказочная…
– А против петергофских гроша медного не стоят. Представь себе: перед дворцом бьет громаднейший фонтан Самсон…
Тут я, нестерпимо любопытный узнать что-нибудь про Иришу, перебил его:
– Потом, брат, потом! Сперва скажи-ка мне, кого ты там встретил?
– Кого встретил? – повторил он и по-своему, лукаво этак, усмехнулся. – Встретил я там Шмелевых…
– И только?
– А тебе кого же еще? Ну, не стану тебя мучить. Была с ними и твоя зазнобушка. Как она тебя любит!
– Так у вас был разговор обо мне?
– О тебе одном, почитай, только и говорили.
– А отец ее и видеться ей со мной не позволяет!
– Мало ли что! Не кручинься; мы все это еще уладим.
– Так вот и уладишь!
– Постой! Слышал ты ведь, что 26 числа большой придворный праздник в Павловске?
– Ну?
– Главным распорядителем праздника сенатор и поэт Нелединский-Мелецкий; а я к нему в помощь прикомандирован. Расскажу я ему про твое горе; он доложит императрице…
– Ну да! Нет, Сеня, я тебе душевно благодарен; но выйдут неприятности только и для тебя, и для меня, и для о. Матвея.
– А вот увидим… Молчи, молчи! И слышать не хочу.
Схватил кивер и – вон из дверей. Как бы он, в самом деле, не сдурил!
* * *
Июля 26. С самого утра нынче дождь лил, и павловский праздник отложен на завтра. Но узнали о том Шмелевы уже на месте, после генеральной репетиции. Из-за дождя происходила она не под открытым небом, а в большом танцевальном зале, только на сих днях пристроенном к так называемому Розовому Павильону. От страшного сквозняка в этом зале воспитанница Самойловых Фимочка до того простудила горло, что совсем охрипла. Нелединский был в отчаянии, так как сама государыня указала ей роль в праздничной пьесе; но Самойлов его успокоил, что имеет ей, дескать, заместительницу; и кого же он наметил? Иришу! Всю роль она, правда, проходила вместе с Фимочкой; но весьма сомнительно, чтобы у Ириши хватило духу выступить перед Императорской фамилией и всем Двором. Да и родитель ее вряд ли даст свое благословение.
* * *
Июля 28. Все еще между небом и землей, но ближе уж, кажется, к небу.
Патриотизм возымел свое действие на Елеонских: ни дочка, ни отец против оного не устояли. На сей раз я, понятно, уже не уклонился от предложения Шмелевых ехать с ними в Павловск. И не раскаялся!
Погода с утра была опять пасмурная; но к 6-ти часам вечера, когда наша коляска с сотнями других экипажей въехала в павловский парк, небеса очистились, и солнце озлатило все торжество. У самого дворца возвышалась триумфальная арка. На полпути оттуда к Розовому Павильону сойдя из коляски, мы, от многолюдства, прошли дальше окружным путем. Близ павильона воздвигнута была еще другая арка из высоких лавровых деревьев, в вышине перевитых гирляндами с надписью:
Тебя, грядущего к нам с бою,
Врата победны не вместят.
Стихи эти взяты, как говорят, из оды новоявленной стихотворицы Буниной.
Такими же гирляндами украшена была вся большая аллея от дворца, которою в 7 часов, при неумолчных ликованиях несметных зрителей, проследовал к Розовому Павильону государь с августейшею матерью-царицей, братьями великими князьями и всею свитой.
При прохождении их под лавровой аркой хор придворных певчих грянул победную кантату.
Название Розовому Павильону дано от окружающих его кустов цветущих роз. Четыре небольшие лужайки по сторонам павильона были приспособлены для театрального представления; декорациями же служили искусно расписанные в натуральную величину: справа – высоты Монмартра, а слева – господский дом и крестьянские избы. На этих-то лужайках придворными актерами была разыграна сельская идиллия сочинения того самого поэта-капитана Батюшкова, коим написана ода на переход наших войск через Рейн.
Состояла идиллия из четырех картин: в первой выступали одни дети, во второй – парни и девушки, в третьей – молодицы и в четвертой – старики и старухи. Все по очереди славили государя и победоносное его войско, восстановившее всеобщий мир.
Среди деревенских девушек во второй картине я сначала так и не узнал Ириши: стоял я в толпе довольно далеко. Но когда раздался ее серебристый голос, сердце в груди у меня ёкнуло.

«Ты возвратился, благодатный!»
– Кто это? – спрашивали друг у друга мои соседи. – Какое чистое сопрано!
– Да это моя нареченная, моя Ириша! – на весь парк хотелось мне крикнуть.
Третья и четвертая картины, где ее уже не было, меня, само собой, не так уж тронули; но когда заключительный гимн сочинения Державина своим бархатистым тенором затянул сам Самойлов:
Ты возвратился, благодатный,
Наш кроткий ангел, луч сердец.
тут и у меня глаза от слез затуманились; а когда он закончил троекратным «ура! ура! ура!», и остальные певцы и вся публика кругом «ура» это подхватили, то и мой голос в сем общем восторженном крике выделился подобно тромбону, покрывающему все прочие инструменты в оркестре.
Сагайдачному было не до меня, ибо главный распорядитель праздника, Нелединский-Мелецкий, толстенький, суетливый старичок в золоченой треуголке и красном сенаторском мундире, в голубой ленте и звездах, посылал его, в качестве своего «адъютанта» то туда, то сюда.
Уже в сумерках, когда в танцевальном зале начались танцы торжественным полонезом, Сеня отыскал меня среди зрителей под окошками зала.
– Вот ты где! А я, брат, за тебя уже похлопотал и, думаю, не без пользы.
– Ты говорил обо мне с Нелединским?
– Не столько о тебе, сколько об Ирине Матвеевне. Собственные его вирши, правда, весьма посредственны, но все прекрасное ценить он умеет. Так оценил он и голос Ирины Матвеевны, и еще более ее свежую молодость. Заступив в спектакле место воспитанницы Самойлова, она оказала ему большую услугу, а потому, когда я ему давеча объяснил, что и он может ей отплатить услугой, он тотчас после спектакля пошел с докладом в кабинет к императрице Марии Феодоровне, а немного погодя туда позвали и Ирину Матвеевну.
– Ну, а дальше, дальше что же?
– Что было дальше – постараюсь узнать в течение вечера. Сейчас я должен дирижировать танцами. Во всяком случае не сегодня, так завтра тебе все разузнаю.
После танцев должен был быть еще большой фейерверк и ужин в нескольких палатках. Но у Варвары Аристарховны от двух поездок: вчерашней и сегодняшней, так голова разболелась, что мы еще до конца уехали обратно в Питер.
И вот я с часа на час ожидаю теперь к себе Сеню.
…Слава Создателю во Святой Троице! Думал уж, что и не дождусь. И солнце за крышами скрылось, когда он, наконец, ко мне ворвался.
– Ну, дружище, облачайся в парадную свою форму со всеми регалиями – и марш на парад!
– На какой парад?
– К тестю; сам за тобой послал.
– Кто? о. Матвей?
– Ну да. Экой ты, брат, нынче непонятливый! Живо! Живо!
Стал я облачаться на скорую руку, а он тем временем рассказал мне вот что:
– Ночевал я у Нелединского в Павловске. После вчерашней передряги не успел еще и выспаться, как он за мной уже посылает.
– Сию минуту, – говорит, – отправляйтесь в Петербург и привезите сюда священника Елеонского: ее величество Мария Феодоровна к себе его требует.
Полетел я сюда на курьерских, прямо к о. Матвею и полчаса спустя летел уже с ним обратно в Павловск.
– А он что же?
– Он, точно с неба свалился, ничего-таки не понимает, меня выпытывает: что да как? А я:
– Знать не знаю, ведать не ведаю. Примчались. Повели его к императрице; а когда, недолго погодя, от нее он опять вышел, совсем старик размяк, растаял, как снег в лучах солнца, платком глаза утирает.
– Ну, что, – говорю, – батюшка?
– Ох, молодой человек! Молодой человек! – говорит и пальцем мне грозит. – Следовало бы мне серчать на вас, что так подвели. Но без вас я не сподобился бы всемилостивейшую родительницу царскую улицезреть, ангельский голос ее услышать.
– Так вы, батюшка, – говорю, – больше уже не упорствуете?
– Против высочайшей ее воли, столь душевно изъявленной, дерзну ли я еще долее упорствовать?
– И отдаете дочку за моего приятеля?
– Придется, – говорит, – отдать; судьба, видно! Не даром говорится, что всякая невеста для своего жениха родится.
На сих словах Сени я не выдержал, обхватил его вокруг шеи и поцелуй ему влепил.
– А потом, – говорю, – что же было?
– Потом? Только домой его доставил, прощаюсь, а он мне:
– Ты, что же, дружкой у него будешь?
– Само собою.
– Так вези его сюда. За одно уж порешим.
– И вот я за тобой. Извозчик ждет внизу у подъезда. Скоро ли ты управишься?
– Готов, – говорю и хватаю еще с собой заветный мешочек, золотом набитый (Бриеннские двойные луидоры еще в Париже ведь на наши русские империалы выменял).
Сели на извозчика.
– Пошел! Хорошо поедешь – целковый на чай.
Вихрем домчал. А о. Матвей, заложив руки за спину, по гостиной взад и вперед похаживает. Увидев меня, к противоположной двери обернулся.
– Ириша! Где же ты?
Ан она, голубка моя, там уже стоит, лучистыми звездочками своими искры на меня мечет.
– Ну, что же ты? – говорит ей родитель. – Подойди ближе. Да и ты тоже.
Подошли мы оба.
– Эх, эх! А колец-то обручальных еще и не припасли.
– У меня-то есть, – говорю и колечко Иришино с бирюзой предъявляю.
– И у меня тоже, – говорит Ириша и берется за мизинец свой с колечком из моих волос.
Но тут к ней Сеня подскочил.
– Нет, уж извините, – говорит. – Вот ваше обручальное кольцо: еще в Париже для вас припасено.
И преподносит ей, в бархатном футлярчике, золотой перстенек с большущим, знакомым уже мне, бриллиантом.
– Да, ведь, это никак драгоценный алмаз? – говорит о. Матвей.
– Мне он случайно достался, и я его для невесты моего друга закадычного оправить только дал.
– Коли так, то ладно. Ну, детушки, преклоните колена.
И склонились мы перед ним, и благословил он нас, на персты кольца нам надел, обнял дочку, потом и меня.
– А теперь, – говорю, – батюшка, вы разрешите уж Ирише принять приданое французского графа?
И подаю ей мешочек.
– Бери уж, бери, – говорит ей отец. – Теперь не принять неразумно бы было. Но со свадьбой, милые вы мои, как хотите, повременить вам еще годик-другой придется.
– До следующего, – говорю, – чина?
– А ты в каком чине-то?
– Подпоручик.
– Так вот, как станешь поручиком…
Меж тем Сеня мой хозяев Самойловых успел уже позвать. И входят они, а за ними лакей – в руках поднос с бокалами шампанского. Все наперерыв с Пришей, со мною, с о. Матвеем чокаются. А неугомонный наш дружка:
– Горь-ко! Горь-ко!
Писать ли еще дальше? Буде на дне души моей от перенесенных коловратностей жизни и оставался еще, быть может, горький осадок, то горечь его в неизъяснимой сладости – не шампанского, а блаженного этого часа бесследно растворилась. Дай же Бог и будущим детям моим, и внукам, и правнукам, да и всякому ближнему дожить однажды тоже до такого часа… И точка.
1914