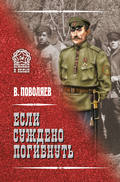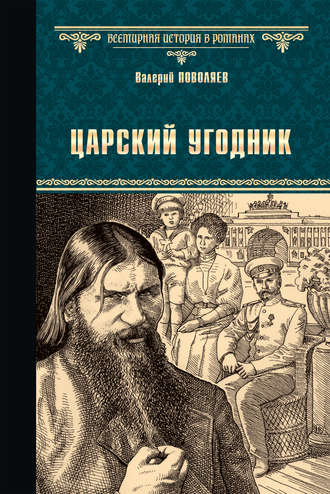
Валерий Поволяев
Царский угодник
Прыгнула в коляску, которая ожидала ее – не уезжала, была специально нанята, да и вообще генеральша предвидела такой исход, – и отбыла из Покровского. Пыль снова густым столбом поднялась к облакам.
Распутин деловито отряхнул одну ладонь о другую.
– Ты чего, Гришк? – высунулся из сарая полупьяный отец.
– Ничего. Ходють тут всякие, – он снова отряхнул ладонь о ладонь, – а потом горшки с тына пропадают. И сапоги оказываются без заплат и подметок.
А в остальном отношения Распутина и генеральши были образцовыми.
Одной из самых знатных дам в российской столице была Головина – вдова влиятельнейшего человека, царского камергера Евгения Головина, женщина, до глубокой старости сохранявшая следы былой красоты, осанку, острый живой ум, одевавшаяся, в отличие от генеральши Лохтиной, «простенько и со вкусом», но тем не менее, как и Лохтина, безмерно преданная Распутину, хотя и сердитая. Впрочем, Бог с ней, со старой Головиной, гораздо более ее «старцу» была предана камергерская дочь Мария Евгеньевна, в обиходе – Муня. Иногда ее звали Мунькой. Мунька, случалось, месяцами жила у Распутина.
Высокая, худая, с козьей грудью и низким голосом, Муня Головина, однажды испробовавшая, что такое «изгнание беса из тела», готова была, так же как и генеральша, изгонять беса по нескольку раз на день – дело это ей страшно полюбилось. Она, случалось, подменяла Распутину секретаря, пыталась выдавить из окружения «старца» Лапшинскую, а потом и Симановича, ревновала Распутина ко всему и вся. Он помыкал ею как хотел, даже животными, наверное, так не помыкают, как он помыкал Муней. Муня терпела.
Говорят, «старец» даже доходил до того, что заставлял пить воду из таза, в котором мыл ноги, и Муня делала это покорно и благоговейно, Она прошла с Распутиным через всю его питерскую жизнь, вплоть до смерти.
В поле зрения Распутина также попал – он просто не мог не попасть – очень странный человек из знатного рода, князь Михаил Андронников. Кличка у Андронникова была совсем неподходящая для княжеского звания – Побирушка. Был Побирушка похож на ходячую, несвежую, уже заплесневелую котлету. Самое красочное и точное описание его дал Сухомлинов <см. Комментарии, Стр. 37. Сухомлинов Владимир Александрович…>, бывший военный министр России: «По наружному виду – это Чичиков: кругленький, пухленький, семенящий ножками, большей частью облекающийся в форменный вицмундир с черным бархатным воротником и золотыми пуговицами. Он зачислялся обыкновенно по тому министерству, патрон которого ему благоволил, пользуясь за это взаимностью князя, и приходил в ярость, когда его вышибали из списков ведомства с переменой министра.
Числясь только по ведомству, не получая ни содержания, ни наград, он пользовался лишь вицмундиром. Способность втираться к власть имущим была у этого человека совершенно исключительная. Весьма немногим из тех, кто был намечен князем, удалось избегнуть чести пожимать его нечистую руку. А были и такие, которые в нем и души не чаяли. Тайна его положения обусловливалась тем фактом, что отдельные министры пользовались его услугами, чтобы быть осведомленными относительно их коллег и о том, что делается в других министерствах».
По части того, что Андронников был бессребреником, бывший военный министр, а в недалеком прошлом – киевский генерал-губернатор, думаю, здорово ошибался. Или просто спутал Побирушку с кем-то еще.
Хотя Андронникова действительно часто пинали ногами, перешвыривая из одного ведомства в другое, но зарплату он получал регулярно: то находился на денежном содержании у военных, то расписывался в эмвэдэшной ведомости, то оказывался на «краю краев» Табели о рангах – там, где ведают почтами либо нарезом земли.
Вид у Побирушки был отталкивающим. Обрюзгший, с оплывшими щеками и жирными бабьими плечами, неряшливый, с сальными завитками волос, он был крайне неприятен. И, само собой, походил на побирушку, ночующего на городской свалке. Оттого его и прозвали Побирушкой.
Обладал он одной особенностью. Если Побирушка появлялся ранним утром в какой-нибудь квартире с букетом жиденьких цветов, с неизменным своим кожаным портфелем, набитым для солидности старыми газетами и туалетной бумагой – специально показать, что владелец находится при портфеле и вообще он велик, вхож ко всем выдающимся людям и проблемы решает только государственные, ниже не опускается, – и отвешивал низкий поклон хозяину, это означало одно: хозяина ждало солидное повышение по службе.
Откуда Андронников добывал сведения о том, что хозяин пойдет в гору – не ведомо было никому.
Говорят, что из типографии, где печатали высочайшие указы, брал там верстку, жадно прочитывал и резво мчался к очередному государственному чиновнику, смиренно прося впоследствии его не забыть. Создавалось впечатление, что не царь подписывал указы о новых назначениях, а Побирушка.
Когда в Питере появился Распутин, Побирушка сблизился с ним и через некоторое время стал ходить в квартиру «старца» как к себе домой.
Вот там-то, на кухне у Распутина, ему действительно довелось принять участие в назначении нескольких важных государственных чиновников. Но это было позже. Много позже.
А вот еще одна любопытная фигура из распутинского окружения. Иван Федорович Манасевич-Мануйлов. В обществе его знали в основном как журналиста. В более узких кругах – как шпиона, стукача, человека, чьи доклады принимал сам начальник Департамента полиции. Лично. С глазу на глаз.
Манасевич-Мануйлов отличался от Побирушки и ему подобных. Это был светский человек. В парикмахерской ему делали маникюр. Как иной избалованной, изнеженной дамочке.
Родился он в семье очень делового человека – Тодеса Манасевича, умудрившегося по почтовой части обставить всю Россию и принести ей такой денежный урон, какой, наверное, не принесло нашествие Наполеона, – видавшие виды чиновники с клейкими ладонями, сами большие мастера хапнуть, лишь стонали от зависти: такое им было не под силу. Мозги имели не те. Разбогатевший Тодес захотел переместиться из захолустного городка на западе России, в котором жил и в котором, случалось, погибали застрявшие в грязи лошади и их не удавалось вытащить, – в столицу, и взятки соответствующие приготовил, но светлым мечтам Тодеса Манасевича не суждено было сбыться – его загребли.
Грубо, беспардонно, вывернув руки и навесив на них тяжелые наручники. За деятельность, нанесшую большой экономический урон государству, Тодеса упекли в Сибирь. До скончания века кормить тамошних комаров. Так Тодес Манасевич в Сибири и сгинул.
Сынка его, мягкотелого толстяка с печальными крупными глазами, взял к себе купец Мануйлов. Через некоторое время он вместе с приемным сыном принял лютеранство. Сын, имевший сложное еврейское имя, стал называться Иваном, отчество, естественно, получил – Федорович. Имя «Федор» к Тодесу стояло ближе всего. Фамилию же начал носить двойную: Манасевич-Мануйлов.
Деньги, которые купец Мануйлов оставил после своей смерти – большие деньги, подросший Ванечка, оказавшийся большим любителем сладкого, быстро прокутил и пошел работать в охранку. По части стукачества ему, говорят, не было равных – он превзошел самого себя, и через некоторое время двинулся по служебной лестнице вверх.
Его послали в Париж – уже не по стукаческой части, а с поручением более «благородным» – шпионить. Дали большие деньги – столько валюты, что на нее во Франции можно было купить пару хороших особняков. Ни пару особняков, ни даже один Ванечка не купил – он прокутил деньги. В конце концов их не стало совсем – не на что было даже купить простенькую ручку со стальным дешевым пером «рондо», – Ванечка Манасевич-Мануйлов сел на мель.
Парижские проститутки, в отличие от санкт-петербургских, брали много, потому Ванечка и разорился – промотал даже те деньги, которые были положены ему на жалованье. По всем законам он должен был отправиться на свидание к своему предприимчивому папаше кормить сибирских комаров, но этого не произошло: люди, проходящие по шпионскому ведомству, так бесславно свои дни не заканчивали, не исчезали, они все были на виду, каждый – на счету, как ОЦС – особо ценные сотрудники. Ванечка был ОЦС.
Лютеранин по навязанной ему вере, иудей по происхождению, Ванечка неожиданно заделался отчаянным православным и был послан в Ватикан. Как это ни смешно – защищать там интересы православной веры.
И заодно шпионить. И воровать. Воровал Манасевич-Мануйлов так, как другим и не снилось. Впрочем, Ванечка и работал. Но как?! Например, он достал секретные коды японской разведки – это было в тяжелую пору Русско-японской войны, когда наши солдаты тысячами ложились в землю под Мукденом и Порт-Артуром, такие коды могли сохранить столько жизней! Ванечка содрал с охранки бешеные деньги – на них в Париже можно было купить либо построить целый квартал. Когда же с кодами начали работать специалисты, оказалось – это обычные, выдранные наугад страницы из англо-японского словаря. Деньги в казну Ванечка, естественно, не вернул.
В конце концов вора из шпионского ведомства вышибли, и он оказался на улице.
Еще в детстве Ванечка Манасевич научился складывать слова в предложения, предложения во фразы и целые колонки, колонки в страницы и так далее, поэтому, очутившись на улице, Ванечка Манасевич-Мануйлов решил осчастливить собственной персоной русскую журналистику.
Он начал работать на фамилию Сувориных <см. Комментарии, Стр. 40…на фамилию Сувориных>, на отца и сына, на «Новое время» и «Вечернее время», перемещался из одной редакции в другую, где навострился довольно успешно стричь купоны. Писал он по большей части различные рецензии и отзывы. Пером он владел ловко, но беспринципно – например, актриса, о которой он собирался дать положительную статью, должна была с ним переспать да еще заплатить за отзыв хорошие деньги.
Насчет «переспать» для многих было противно; Манасевич-Мануйлов насквозь пропах луком и водкой, от сияющей позеленевшим золотом улыбки некоторым дамочкам делалось дурно, и они спешили сунуть Ванечке в руку пару-тройку лишних купюр, лишь бы не спать с ним. Манасевич-Мануйлов еще в юные годы вставил себе золотые зубы, поэтому каждое слово, которое срывалось у него с языка, сопровождалось режущим глаза сверком, зубы лупили светом, как прожектора, и от них хотелось прикрыться ладонью.
Брал он много – хапал столько, сколько вмещалось в руке, ему платили все: владельцы цирковых балаганов и главные режиссеры театров, хозяева ресторанов и актрисы, барыги, собирающиеся начать свое дело, и палаточники, торгующие рыбой и гвоздями; его боялись все: а вдруг этот страшный человек раздолбает в очередной статье их заведение?!
Владельцы банков Ванечку тоже боялись.
– Не подмаслите, – говорил он им, – буду гавкать. Ох как буду гавкать!
Промышленные предприятия Манасевич-Мануйлов не трогал – опасался слесарей и прочего рабочего люда: отделать могут так, что родная мать не узнает.
При всем том он демонстративно подчеркивал, что до сих пор продолжает служить в штате охранки, и это была еще одна причина, по которой боялись Манасевича-Мануйлова. Боялись на всякий случай: а вдруг посадит?
На Распутина Манасевич-Мануйлов наткнулся только благодаря собственной лени: лень было искать материал для очередной статьи, лень было ехать куда-то, лень было суетиться, как это делают другие журналисты, и он взял то, что находилось под рукой, – Распутина.
Тогда считалось: о Распутине не пишет только ленивый. Вот ленивый о нем действительно не писал, это был Манасевич-Мануйлов. Поразмыслив немного, браться за Распутина или не браться, Ванечка почесал пальцами затылок и махнул рукой: «А-а, пусть будет Распутин. На безрыбье и рак рыба». И написал про «старца». Да так лихо написал, что Распутин, прочитав сочинение неизвестной Маски – Манасевич-Мануйлов подписывал свои материалы именно этим псевдонимом, – чуть было не заплакал от обиды.
«Ну чего плохого я той Маске сделал, а? Скажите, люди?» Немного отойдя от обиды, «старец» начал наводить справки: кто таков этот автор? Что за Маска? В конце концов узнал: Маска – это Манасевич-Мануйлов.
Попив чаю и хлебнув для смелости мадеры, Распутин сел на извозчика и покатил в Эртелев переулок к дому номер одиннадцать, где располагалась редакция «Вечернего времени» и где у Манасевича-Мануйлова имелась своя комнатенка, заваленная старыми газетами и журналами, пропахшая пылью, мышами, коньяком, капустой и лекарствами. Иван Федорович гордо называл свою рабочую комнатенку «кибинетом». В «кибинете» стояла солидная машинка с расползающимся во все стороны шрифтом «Ундервуд», а на приставном крохотном столике – давно не мытый графин с двумя такими же давно не мытыми стаканами.
Распутин вошел в кабинет, как обычно привык входить в подобные кабинеты – без стука, решительно, подогревая себя мыслью, что за его спиной стоят великие люди, в случае если кто-нибудь вздумает его обидеть, в обиду не дадут и из любой ямы вытащат, да и в кабинете мог сидеть пустячный человек, обычный нуль. Дальше произошло вот что.
Манасевич-Мануйлов строго взглянул на Распутина, быстро сообразил, с кем ему сейчас придется иметь дело, и спросил напористо, на «ты», свинцом прокатывая во рту слова:
– Почему без стука ворвался, а?
«Старец», мигом оробев, неопределенно приподнял плечи, покосился светлыми печальными глазами на кипу пыльных газет, сложенных в углу.
– Кто такой? – вновь резко спросил, будто прогавкал, Манасевич-Мануйлов.
– Распутин я, – вздохнул «старец», – а по паспорту буду – Новых.
Недавно он попросил Николая, чтобы тот позволил ему сменить фамилию.
– Чего так? – спросил Николай. – Чем старая фамилия не нравится?
– Да незвучная она. – «Старец» скривил губы. – Ничего в ней хорошего нет.
– Меняй! – разрешил царь.
«Старец» пошел в полицейский участок и выправил себе новый паспорт. На фамилию Новых.
Общение Распутина с журналистом Ванечкой было коротким, «старец» даже понять не успел, что с ним произошло, не говоря уже о словесных объяснениях. Манасевич-Мануйлов, проворно поднявшись из-за стола, лихо развернул Распутина носом к двери и нанес ему удар кулаком в центр затылка.
Все-таки он кое-чему в полицейском департаменте научился, для работы в Париже его готовили специалисты не самые худшие, навыки, полученные им, выручали его не раз. Пригодились они и сегодня.
«Старец» охнул, звонко стукнулся коленками об пол и оказался на четвереньках, а еще через миг сокрушающий удар ногой по «пятой точке» придал ему нужную скорость, и «старец» с грохотом вынесся в коридор.
Манасевич-Мануйлов («старец» иногда потом ошибался и звал его «Манасевичем с Мануйловым», будто двух человек) отряхнул ладони и спокойно продолжал свою работу.
Из соседних комнат выскочили сотрудники.
– Ванечка, что за грохот?
– Так, – спокойно ответил «Манасевич с Мануйловым», – приходил тут один, условиями нашего труда интересовался.
– Издатель?
– Издатель, – с веселым хмыканьем подтвердил журналист. – Широкого профиля, всем интересовался – от плоской газетной печати и нашей политики в Месопотамии до производства грабель и выращивания тюльпанов в навозе.
– Познакомил бы!
– В следующий раз. Он еще обязательно появится.
Ванечка как в воду глядел.
Распутин, кряхтя, почесывая ушибленный зад, пошел в ближайшую пивную опрокинуть пару кружек светлого пенистого напитка с солеными сушками, а заодно обмозговать происшедшее. Главной его мыслью было: как бы наведаться к Манасевичу-Мануйлову еще раз?
– Не то ведь как – не окоротишь его сейчас, он гавкать будет до скончания века, – бормотал он глухо, с трудом разгрызая порчеными зубами крепкие соленые сушки. – Надо прикормить его. Либо убить. С собакой нужно поступать по-собачьи. Другого пути нет.
На следующий день в «Вечернем времени» вышла новая хлесткая статья о Распутине, подписанная Ванечкиным псевдонимом «Маска», и Распутин взвыл от негодования и боли:
– Доколе ж это будет, а?
Вспомнил о том, что вчера ему приходила в голову мысль: «А не прикончить ли этого “Манасевича с Мануйловым”? Гавкающую собаку надо обязательно заставить умолкнуть, накормить ее либо перешибить хребет зарядом дроби…» Накормить Манасевича-Мануйлова «старец» не мог, а насчет убить… Лицо у него сделалось серым, борода затряслась, он забормотал подавленно:
– Слаб человек, очень слаб! Не могу я укокошить Манасевича с Мануйловым, придется снова идтить к нему на поклон. Водки вместе выпить… Ну чего он все время плюется в мою сторону? – Распутин скуксился плаксиво, борода его полезла в сторону. – Чем я ему так мешаю? Перебежал ли где дорогу, бабу ль где отбил, деньгу перешиб ли – что произошло? Почему он на меня гавкает?
Распутин чуть не заплакал. Держа перед глазами газету, снова от строчки до строчки, с первой буквы до последней, спотыкаясь на словах и потея от натуги, прочитал, что о нем сочинил творец под псевдонимом Маска, хлюпнул носом – этот стервец умел больно цеплять. Выругался смачно:
– С-сука!
Надел на себя лучшие штаны и рубаху, на ноги натянул новые козловые сапоги – чтобы обувь не воняла жиром и дубьем, сапоги обработали так, что они стали теперь пахнуть жареными подсолнухами, – взял палку и шляпу и пошел искать по Питеру Манасевича-Мануйлова.
Заявиться к нему на работу, как в прошлый раз, Распутин не рискнул – был уверен, что общение с Маской в официальной обстановке мало чем будет отличаться от того, что уже было, – Ванечка скрутит ему руки и вновь врежет под зад коленом, поэтому он решил искать журналиста в дешевых забегаловках.
Он нашел «Манасевича с Мануйловым» в распивочной на Садовой улице – тот потягивал из графинчика холодную водку и закусывал ее осетриной, накладывая на каждый кусок рыбы толстую охапку хрена. Распутин поморщился: от такого количества хрена у него даже заломило зубы. В Сибири, например, хрен так безудержно не едят, некоторые тамошние гурманы вообще не знают, что это такое, а здесь, в Рассе, на какой стол ни глянь – всюду стоят глиняные бадейки с хреном.
Взяв себе пива, Гришка, зажмурив глаза, смело уселся за столик Манасевича-Мануйлова. Поерзал костистым задом, словно бы проверял, крепок ли стул, отпил из кружки немного пива и только потом спросил:
– Можно?
– Валяй! – разрешил Манасевич-Мануйлов, проглатывая очередной кусище осетра, рыбу он почти не разжевывал, проглатывал целиком, вместе с хреном.
Распутин снова деликатно пригубил пива, раздумывая, с чего бы начать разговор. Проблеял нерешительно:
– Я это…
– Что-о? – Ванечка Манасевич-Мануйлов проглотил очередной кусок осетрины, выхлебал из графина немного водки, поболтал ею во рту, взял в руку вилку, угрожающе выставил ее перед собой.
– Извините, ради бога! – смятенно пробормотал Распутин, глаза его расширились от испуга. – Не хотел, не хотел…
– Смотри у меня, – Ванечка погрозил «старцу» вилкой, – не то живо в задницу всажу.
Распутин поперхнулся пивом и поспешно отодвинулся от этого страшного человека.
Выбрав кусок осетрины потолще и поаппетитнее, Ванечка насадил его на вилку. Распутин подавленно молчал. Так и шла их «беседа».
Наконец «старец» собрался с духом, вытащил из кармана пачку денег.
– Я это…
«Манасевич с Мануйловым» заинтересованно посмотрел на него, одобрительно кивнул.
– Это другой разговор! – сказал он.
Денег у Ванечки никогда не хватало, несмотря на то что он получал гонорары и в «Новом времени» и в «Вечернем», обслуживая по очереди то одно издание, то другое, последние месяцы ему начало подкидывать немного денег ведомство Степана Петровича Белецкого, плюс перепадало от разных артисточек – под положительные рецензии, – и все равно денег не хватало.
Виной всему была любовница – также из артистического мира, по фамилии Лерма, съедала она денег неимоверно много, и Ванечка очень страдал, когда не мог достать их. Если у Ванечки не было денег, Лерма немедленно покидала его и перемещалась в постель одного из питерских жокеев, который, вполне возможно, участвовал сейчас в заездах, и сурово выговаривала оттуда Ванечке, что, пока у него «финансы не перестанут петь романсы», она не вернется. Ванечка от горя и мук ревности лез у себя в «кибинете» на стены. За деньги он был готов продать что угодно, не только Родину – готов был даже выкопать в Сибири останки своего отца, Тодеса Манасевича, и преподнести в кулечке покупателю в обмен на пару банкнот.
Деньги, деньги, деньги! Они всегда были (и остаются) движущей силой общества, с годами ничего не меняется.
– А если я дам вам денег, вы не будете больше меня пропесочивать? – уважительно, на «вы», с дрожью в голосе спросил Распутин.
– У тебя столько денег не найдется, – небрежно бросил Ванечка.
– Я буду стараться.
– Давай деньги, там подумаем!
Распутин, поковырявшись в кармане, вытащил еще одну пачку денег, положил на стол.
– Вот!
Ванечка прикинул опытным глазом: денег было много, тысячи полторы. Значит, Распутин здорово припекся к сковороде, поджариваемый со всех сторон статьями Ванечки Мануйлова. Судя по глазам, в которых завспыхивали колдовские огоньки, «старец» жаден и копейку выдавить из него невозможно, а тут расстается с гигантской суммой, на которую запросто можно купить дом, участок земли и стадо коров, чтобы не быть голодным.
– Мало! – Ванечка недовольно шевельнул атласными бровями.
Хотя денег было много. Даже в лучшие времена, когда он сидел в Париже и вольготно распоряжался подотчетными суммами – что хотел, то с ними и делал, – у него и то не всегда бывало столько на руках.
– Да ты что?! – Распутин не удержался, взвыл. Манасевич-Мануйлов, не глядя на «старца», отпил из графинчика водки, побулькал во рту.
– Раз сказал, мало – значит, мало.
Распутин поковырялся в кармане, достал третью пачку денег и, похлюпав носом от жалости к самому себе, положил рядом с первыми двумя.
– Это все. Я даже на пиво себе ничего не оставил!
– Пиво я тебе куплю, – сказал Ванечка, – но впредь знай, дядя: слово в России ценится дорого. А ты жмешься, как кухарка в руках извозчика.
– Вот рыбий потрох! – горестно и одновременно восхищенно пробормотал Распутин. – Подметки режет на ходу и не морщится! – Он взял кружку с пивом и залпом выпил ее до дна, поставил рядом с первой, уже пустой, и не заметил в волнении, как она опустела…
Выпрямившись над тарелкой с осетриной, Манасевич-Мануйлов звонко пощелкал пальцами:
– Человек!
Подскочил половой с напомаженной, блестящей от репейного масла головой, согнулся в поклоне:
– Чего изволите?
– Кружку пива за мой счет. Ему вот. – Ванечка потыкал сальным от осетрового жира пальцем в Распутина. Подумав, облизал палец, глянул колко на «старца» и проговорил нехотя, словно бы для самого себя: – Ладно!
– По рукам, значит? – обрадовался Распутин. Манасевич-Мануйлов усмехнулся, глаза у него сделались далекими, жадными, и он, ничего не ответив, снова принялся за осетрину.
– Так как же? По рукам? – настаивал «старец». В это время появился половой с кружкой пива. Ванечка приказал ему:
– Принеси еще одну кружку. Больно уж жадный старичок мне попался. – Он вновь потыкал пальцем в Распутина. Глаза у полового расширились, сделались огромными, как два блюда; он увидел на столе рядом с пивной лужей две пачки денег. Столько денег он не видел еще никогда. Судорожно покивав головой, он пробормотал, что сейчас доставит еще одну кружку хмельной влаги, глаза его не отрывались от денег. Манасевич-Мануйлов это заметил, привычно ухмыльнулся.
В следующий миг деньги исчезли со стола. Половой вылупил глаза еще больше, они у него чуть не вывалились из орбит. Колдовство какое-то, цирковой фокус: только что лежали деньги на столе, никто к ним не прикасался – они были, были, были, – и вдруг их не стало! Пивная лужица преспокойно стынет на столе, она как была, так и есть, а денег нет. Половой изумленно протер кулаками глаза.
Ванечка был доволен. Он умел делать и не такое. Ткнул полового кулаком в бок:
– Марш за пивом!
– Значит, по рукам! – обрадовался Распутин, увидев, что деньги исчезли, – он тоже не заметил, как они перекочевали в Ванечкин карман.
– Посмотрим, – неопределенно проговорил Манасевич-Мануйлов.
Назавтра в «Вечернем времени» вновь вышла разгромная статья о Распутине: Манасевич ведь не обещал, что больше не будет писать о «старце»? Не обещал. Тогда какие к нему претензии?
Григорий Ефимович от обиды даже катался по полу, но ничего поделать не мог. Зато в следующей статье Манасевич-Мануйлов уже похвалил его. Так он вел себя до конца дней своих – то ругал, то хвалил «старца», то появлялся в его обществе, то исчезал. Он «доил» Распутина, как корову, и на его деньги содержал неверную Лерму, вот ведь как.
Странный человек был Иван Федорович Манасевич-Мануйлов. Недаром о нем была написана книга «Русский Рокамболь».
Много других «странных», скажем так, людей окружало Распутина в его петербургской жизни, но эти четверо были, пожалуй, главными и сопровождали «старца» до самой смерти.
Свирицкий был слабым жокеем – у Распутина создалось впечатление, что он теряется во время бега, прямо на дорожке, нервный, умный Чардаш перестал понимать его, и Распутин хитро усмехнулся; деньги его пропадали, он проигрывал, но означал ли его проигрыш на самом деле потерю – вот вопрос! Распутин покосился на Лебедеву, которая увлеченно следила за забегом, сунул в рот черную прядь бороды, пожевал ее.
Скачки не интересовали Распутина. Свирицкий в конце концов сообразил, что не надо управлять Чардашом и дергать его, надо дать ему волю – конь сам вынесет, и Чардаш почувствовал, чего хочет наездник, напрягся, вытянулся в струну. Распутин недовольно сощурился. Из-под копыт Чардаша полетел песок. Он несся над землей, потный, горячий, капризный, довольный тем, что человек поверил ему, – Свирицкого он не знал, как Свирицкий не знал Чардаша, – слышал далекую музыку, доносящуюся невесть откуда, прижимая к голове уши.
Вот жеребец дотянулся до Принца – белого тонконогого коня, сравнялся с ним и через четыре секунды ушел вперед, доставать Корону – резвую кобылу с коротко, на немецкий манер, подрезанным хвостом.
– Что Свирицкий-то делает, смотрите! – воскликнула Лебедева, не отнимая от глаз маленького перламутрового бинокля, прикрепленного к золоченому держателю.
– Это не… этот самый, не Свирицкий, – недовольно проговорил Распутин, – это конь.
Лебедева не отозвалась, она, похоже, не слышала Распутина, восхищенно следила в бинокль за жокеем. Не выдержав, прищелкнула пальцами.
– Азартная, однако, дамочка, – едва слышно хмыкнул Распутин, отвел глаза в сторону: а вдруг она услышала его? У этих женщин слух как у кошек – слышат то, что нормальный человек никогда не услышит. Но Лебедева, кажется, его не слышала.
В висках у Распутина возникло что-то тягучее, сладкое, он сглотнул слюну и, не в силах бороться с собою, кинул в рот несколько подсолнуховых семечек.
– Ваш Чардаш выигрывает, Григорий Ефимович! – воскликнула Лебедева.
Это Распутин видел и без Лебедевой: Чардаш вошел в азарт, забыл о наезднике – главное для Чардаша было сейчас обойти соперников, и чем больше он вырывался вперед, тем мрачнее становилось лицо Распутина.
Чардаш первым пересек линию финиша, у которой стояло два жокея в красных шерстяных кепках.
– Что с вами, Григорий Ефимович? – забеспокоилась Лебедева, сдвинула рукоять бинокля, которая собиралась, словно подзорная труба. – На вас лица нет! Вы же выиграли.
– То-то и плохо, – отозвался Распутин. – Не люблю выигрывать.
– Почему-у? – удивилась Лебедева.
– Плохая примета! Выиграешь рубль – потеряешь на четвертной. Такое уже было! – Распутин расстроился не на шутку, и это еще более обеспокоило Лебедеву, она притронулась к рукаву распутинской рубахи:
– Григорий Ефимович, родненький, а вы поставьте выигрыш еще раз в оборот… на другую лошадь – и проиграйте его!
– Так и сделаю! – твердо решил Распутин и все деньги, которые отсчитала ему касса, поставил на самую захудалую лошадь третьего заезда – стареющую серую Монахиню, кобылу смешанной полускаковой породы. Он решил твердо проиграть, чтобы не оставалось ни одного шанса, ни одного двугривенного, способного прожечь ему карман, – Распутин боялся этих денег, что-то подсказывало ему: в них таится опасность!
– Григорий Ефимович, не кукситесь, – попросила Лебедева, – все будет в порядке!
– А что такое – в порядке?
– Ну как хотите вы, так оно и будет.
– Посмотрим, посмотрим!
– Расскажите что-нибудь. Про папу, например. Расстроенный Распутин не стал в этот раз скрывать, кто такой папа.
– У царя я человек свой. – Он даже не заметил, что произнес слово «царь», никак не зашифровывая его. – Вхожу без доклада. Стукотну, вот и все! Когда мне надо, тогда и делаю это. А случается, день-два не объявлюсь – телефон надрывается, голосит, словно больной ребенок: Григория Ефимовича дожидаются во дворце. Вроде я у них как примета. Все меня уважают. И царица хороша, она вообще баба ничего…
– Разве можно так о царице? – испуганно прошептала Лебедева.
– Можно, – кивнула старуха Головина.
– При всех?
– Можно и при всех. Греха в этом особого не вижу. Если человек хорош, то он хорош. Чего таиться-то?
– Нельзя, Григорий Ефимович!
– Можно! И царенок хорош. И все они – и царь, и царица, и царенок – все ко мне. Слыхала небось про то?
– Да.
– Я один только могу с Алексея Николаича боль снимать. – Распутин назвал наследника по имени-отчеству. – Только я. Один, больше никто. А царенок очень больной, совсем болезненный, мне жаль его, мается. Кровь у него порченая, ноги, нутро… Колдуны сглазили.
– Какие колдуны?
– Да есть такие, – неопределенно ответил Распутин, – водятся. Вот брат царев, Николай Николаевич, он меня не любит, очень не любит. Как волк. Волк человека не любит, а он меня. Один раз я, значит, приехал – и прямо к царю, дверь раскрываю, а Николай Николаевич, великий князь, там, у царя, значит, находится. По делам своим. На меня зверем смотрит. А я что? Я ничего. Мне все ничего, злобы к нему я не питаю. Сидит он, а меня увидел – сразу на ноги встал и уходить собрался. Я ему говорю: посиди, время раннее, чего уходить-то? А он, значит, царя соблазняет, все на Германию его наговаривает. – Распутин достал из кармана семечек, швырнул несколько штук в рот – он перестал стесняться Лебедеву.
Помолчал.
– А дальше что? – спросила Головина.
– На Германию, значит, папашу подначивает, соблазняет легкой добычей, а я говорю: рано нападать на Германию и незачем. Вот когда корабликов понастроим, усилимся, тогда и нападать можно будет. И воевать можно будет, а сейчас не надо, сейчас рано. Николай Николаевич, значит, рассерчал, кулаком ударил по столу и кричать начал. А я ему: кричать-то зачем? Чего воздуся сотрясать-то впустую? Тогда он совсем обозлился и вопрос царю ребром: выгони, говорит, Распутина, чего он тут делает? – Распутин снова швырнул в рот несколько крупных подсолнуховых семечек, кожуру сплюнул под ноги.