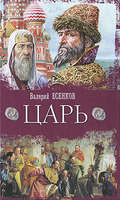Валерий Есенков
Дуэль четырех. Грибоедов
Беневольский, ничего общего не открыв между своей книжной наивностью и грубой истиной жизни, оскорблялся и проклинал, подобно всем потерянным провинциалам в столице: «Презрение буйным чадам Арея! бесчувственные враги изящного! – Федька! стань сюда! На каждой черте лица твоего дикая природа наложила печать свою, но ты имеешь душу!.. И не обделана душа твоя резцом образованности, и закоснела она в коре невежества, но ты имеешь душу!..»
Беневольский читал свои мерзкие вирши слуге, так и тот засыпал, немудрено, что сражённый им Беневольский проклинал белый свет вместе с Федькой:
«И это я написал! это излилось из моего пера! Федька!.. Он спит, жалкий человек! вместилище физических потребностей!.. И все люди почти таковы, с кем я ни встречался здесь в столице, ни один не чувствует этого стремленья, этого позыва души – туда! к чему-то высшему, незнаемому! Но тем лучше: как велик между ими всеми тот один, кто, как я, вознёсся ввыспрь из среды обыденности! Рука фортуны отяготела надо мною, я проиграл мои деньги, – но дары фантазии всегда при мне, они всё поправят. Вельможи, цари будут внимать строю моей лиры, и золото и почести рекою польются на певца. Но я ими не дорожу, и доволен одною славою, уделом великим…» Беневольский растерянно взывал под конец:
«Мечты моей юности! мечты, сопровождавшие меня из Казани сюда! сопутницы неизменные! куда вы исчезли, заманчивые?..»
Извольте любоваться, какие жалкие стрелы носил он в своём колчане, на какие забавы растрачивал походя свои дарования! Одно хорошо: этот шут на него самого вышел ужасно похож, чуть не те же мечты о фортуне и славе, нелепость одна! Почто ж было на другого кивать, выводить другого в шуты, когда шут и сам?
Поделом: Загоскиным, узнавшим себя в шутовском колпаке, тотчас освистаны были «Молодые супруги»[51].
Впрочем, справедливость всюду надобно отдавать: Загоскин нашёл перевод лучшим оригинала французского, отметил ещё, что действие развивается быстро, и не решился назвать ни одной сцены ненужной или холодной, имел, стало быть, сценический глаз, мог бы продвинуться далеко на театре, кабы посерьёзней взглянул на своё дарование.
Оно хорошо, однако такого рода достоинства обязаны лежать в основании всякой сносной комедийки, за что же хвалить? Однако злодей отыскал-таки несколько неловких и даже глупых стишков и вдоволь насмеялся над ними, шут, а бессомнительно прав.
Стишки в самом деле на поверку оказались неловки и глупы, и от этого досада его была велика. Он собрался было молчать, не почитая достойным ввязываться в смешные журнальные дрязги, в которых наша молодая литература главным образом и заявляла себя, не имея времени и ума на иные шедевры, да обида оказалась сильнее благоразумия, чего от себя он не ждал. Ретивое в нём закипело, чуть ли не так, как в Беневольском его. Ну, нет, он не потерпит, чтобы об нём жужжал дурачества какой-то глупец!
Тотчас бросил он на бумагу фассесию, как он выражался, и пустил её по рукам. Стихи его полетели на крыльях стоустой молвы.
Должно быть, Загоскин вновь учуял свой, на этот раз уже вовсе карикатурный, портрет и нынче пускал в него свои тупые и ржавые стрелы со сцены.
Он прислушался: там болтали о прелестях сочинений Честнова, и он уже знал, кто этот ловкий Честнов и почему так старательно того обеляли в невежестве:
– Чтобы доказать это, надобно сделать выписку, найти дурное.
– И вы, без сомнения, нашли.
– И да, и нет: в первом томе, на одном месте, вместо предлога поставлен союз.
– Хорошо, вы намекаете, что Честнов худо учился синтаксису.
– Точно так. В третьем томе я заметил лишнюю запятую и… и двоеточие не на своём месте…
– Прекрасно! Прекрасно! вы можете сказать, что автор не знает правописания.
– Конечно, и хотя очень заметно, что это типографские ошибки…
– Какая вам до этого нужда! Разве вы обязаны отгадывать, кто ошибся, наборщик или сочинитель?
Публика дружно смеялась, в особенности в райке, поднимая ужасный грохот ладонями, точно из меди.
Усмехнувшись этим шпилькам топорным, Александр какое-то время сидел, погруженный в себя, вспоминая, сколько трудов положил на всю эту эстетику с географией и статистику с хронологией и описанием земли, и вдруг услыхал, как развязно болтали на сцене:
– А знаешь ли ты, что он сватается за Сонюшку?
– Тем хуже для него.
– А почему бы так, батюшка братец?
– А потому, матушка сестрица, что у Софьи есть и без того жених.
Он задохнулся. Как шут Загоскин посмел? Имя Софьи укроет ли для посвящённых имя несчастного? Людским подлостям есть ли предел? Вон отсюда, скорей! Сил его нет терпеть эту мерзкую пытку!
Он поднялся, не дожидаясь конца канители, и вышел вон по ногам, не обращая внимания на приглушённые ругательства в спину.
Боже мой, там, в Москве, венчание, должно быть, уже совершилось, а здесь, в Петербурге, хохочут над ним!
Было холодно и темно. Резкий северный ветер бил прямо в лицо, пылавшее краской негодованья. Дневная слякоть сгустилась корой и мелкими кочками отдавалась в тонких подошвах. Склонившись вперёд, прикрывши ладонью лицо, он порывисто перешёл на ту сторону, где менее дуло, и завернулся в плащ поплотней, однако не сделал он и полусотни шагов, себя сердито браня, что не в силах был позабыть коварства измены, а заодно и за то, что сдуру ввязался в дурную полемику. Всё это молодость, все книжные мысли, мечты. Кто верит женщине, оставив её хотя бы на час? Кто верит, будто в журнальной полемике разливается первый свет просвещения? Пусть эти, чувствительные, сентиментальные, певцы ручейков, попадают впросак. Ему ли склоняться пред теми же слезливыми божествами? Уже в другой раз быть так неловко и публично обруган!
Он решился больше не отвечать, никогда, никому, но не в силах был удержать своей злости, перед собой угрюмо глядел, различая одну темноту, не приметив, как догнал его невысокий худой человек с обезьяньим желтоватым лицом и с тяжёлой тростью в правой руке.
Он искоса глянул, наконец заслыша шаги: широкий боливар на светлых кудрях, с такими полями, что в нужде заменили бы зонт от дождя, опускался до самого носу – тотчас вольнодумца по наряду видать.
И охота же вольнодумствовать боливарами!
Он отворотился, пропуская вперёд, однако счастливый владелец широкого боливара, поклонившись ему, со смехом сказал:
– Я увидел, как вы поднялись, и выбежал следом за вами.
Он вежливо проворчал:
– Теряюсь, чем я обязан.
И услышал быстрый ответ:
– Ахинея несносная мне надоела.
И с лёгкой насмешкой спросил:
– Из этого следует, что я должен быть ей благодарен, в противном случае певец своей печали своим вниманием меня бы не почтил.
Пушкин, задрав голову, рискуя потерять боливар, звонко захохотал:
– Это из вашей последней комедии стих?
Он тотчас парировал:
– Кажется, из неё, я не припомню, однако ж верней, что из ваших последних стихов.
И Пушкин миролюбиво признал, всё смеясь:
– Я тотчас узнал, что вы стрельнули в меня.
Он не настроен был веселиться и довольно небрежно сказал:
– Счастлив, что доставил удовольствие вам посмеяться.
Пушкин, казалось, не обращал на эту небрежность никакого внимания и говорил искренне, скоро, легко:
– Я нахожу, что вы правы. В самом деле, довольно смешно в мои лета петь свою печаль, которой у меня нет, свирели звук унылый и тихий взор, исполненный тоской.
Он насмешливо поклонился:
– Счастлив вдвойне.
– Нынче мне по сердцу песни иные.
– Это те, где вы бросаете взор[52] и видите всюду бичи, везде железы, законов гибельный позор, неволи немощные слёзы, что в таком виде поставлено только для рифмы, весьма неудачной, везде неправедная Власть в сгущённой тьме предрассуждений восседала, Рабства грозный Гений и Славы роковая страсть? Как же, пришлось прочитать, ваши стихи у всех на руках.
На иронию Пушкин ответил со смехом иронией:
– Как и ваш «Лубочный театр»[53].
– Я поразил моим «Театром» глупцов.
– Я вижу, мои новые песни вам не по вкусу.
Он отвернул воротник и слишком громко сказал, искоса глядя на него сверху вниз:
– В ваших песнях нахожу я силу и смысл, да много ли проку, подумайте, в том, чтобы стихами поражать Законы и Власть, тем более что они стихов не читают?
Пушкин с удивлением поглядел на него:
– Нами правит тиран, что же странного в том, что я ненавижу тиранов?
– Вы правы, ничего в этом странного нет.
– Это скорей парадокс, чем здравая мысль, продолжайте.
– Извольте! Вы восклицаете где-то: «Самовластительный Злодей!», с заглавной буквы, иначе нельзя. Что ж, мысль верная, стихи отличные, и далее в том же возвышенном роде, когда возглашаете, что Злодея вы ненавидите, с радостью жестокой видите его смерть и смерть его детей, читаете на его челе вместе с народами печать проклятия, величаете его ужасом мира, стыдом природы и даже упрёком Богу на земле, всё это звучными рифмами, однако, юный мой друг, как вы в своём красноречии не расслышите пустой декламации, которая именно вам не пристала?
Пушкин воскликнул, вскидывая трость, как рапиру:
– Разве Поэт не обязан призывать топор палача на шею Тирана?
– Согласен, да кто же Палач? Верное чутьё истины вам подсказало, что охотников в палачи нынче нет, и вы принуждены были возгласить под конец, что верной оградой царям не составляют ни наказанья, ни награды, ни темницы, ни алтари, и, вновь размахивая топором палача, в существованье которого сами не изволите верить, призываете самовластительных Злодеев добровольно склониться главой под сень надёжную Закона, и станут вечной стражей трона народов вольность и покой. Что за охота вам обольщаться? Где вы видели такого рода Злодеев? Перед вами просторы всемирной истории. Вглядитесь внимательно в анналы её. Дают ли они нам такого рода примеры самоограниченья?
– Но разве мы не находим во всемирной истории великих правителей, истинных благодетелей человечества?
Он улыбнулся и ответил вопросом:
– Разве это были злодеи, укрывшиеся под сенью Закона?
– Вижу, что тоска и ненависть у вас под запретом, оставляете ли вы Поэту хотя бы любовь?
– Поэт сам избирает свой путь.
Пушкин сбоку пристально взглянул на него:
– Разве не публика образует таланты?
– О, любопытно послушать, свежая мысль!
– Таланты драматические прежде всего, чему мы только что были с вами свидетелями. Публика смеялась, не правда ли, однако ж чему?
– Понимаю: публика легкомысленна, однако из каких высоких материй ей угождать?
– Значительная часть наших кресел слишком занята судьбою Отечества и Европы.
Он с улыбкой оборотился к странному своему собеседнику:
– Милый Пушкин, судьбы Европы, в особенности судьбы Отечества куда занимательней, чем судьбы всех, вместе взятых, тиранов, тем более водевили незадачливых драматургов, однако нашу публику эти судьбы нисколько не занимают, поверьте.
– Наша публика слишком утомлена своими трудами.
– Не хотите ли вы этим сказать, что идеальная публика должна состоять из бездельников, как это было во Франции эпохи беспечных Людовиков? Если правду сказать, театр Шекспира был полон ремесленников и мореходов. Как, по-вашему, сии труженики бывали утомлены? Волновала ли судьба человечества, занимали судьбы Британии, печалили судьбы Европы? Но какая это была благодатная публика! Не худо бы пожелать и нам с вами такой!
Пушкин сделался очень серьёзен, хмурился, вертел головой, но твёрдо стоял на своём:
– Наша публика слишком глубокомысленна, слишком ваяема.
Он от души рассмеялся:
– Помилуйте, вы хотели бы видеть в креслах одних легкомысленных пошляков? Но вы только что видели их!
– Она слишком осторожна в изъявлении своих душевных движений и не принимает никакого участия в достоинстве драматического искусства, особенно русского.
– Что это? Вы открыли в России драматическое искусство? Это новость! Прошу вас, просветите меня.
– Вы знаете, Грибоедов, как я дорожу вашим мнением, однако вы бесите меня своим скептицизмом. Ваш охладелый ум не находит достоинств ни в ком и ни в чём.
– Мой милый, вы клевещете на меня, я нахожу в ваших рифмах задатки большого поэта, в противном случае об чём бы нам толковать?
У Пушкина засветились глаза:
– Бросьте, я не об том! Неужели вы не признаете достоинства в сатирах Фонвизина, этого друга свободы? Или в комедиях и в трагедиях Княжнина? Или в Озерова «Фингале»[54]?
– Полно, Пушкин! У Фонвизина если и было какое-нибудь дарование, так он его сам погубил. Что до Озерова и Княжнина, охота была им стискивать себя во французские казённые правила, слишком тесные для духа искусства, тем паче для русского духа, отчего один слишком приторен, другой слишком холоден для меня, я слышу по вашему тону, что и вы сами к ним равнодушны.
– Пожалуй, я согласился бы с вами, скажи вы, что успехом своим Озеров большей частью обязан Семёновой.
– Извольте, готов согласиться, с этим голосом и с этой статурой не один Озеров имеет громкий успех.
Пушкин с увлечением подхватил, верно ужасно любя свою мысль:
– Да, да, говоря об русской трагедии, поневоле говоришь об Семёновой, и, может быть, только об ней!
Он поднял брови и посмотрел на Пушкина снизу очков:
– Что я слышу, вы заговорили другим языком!
– Одарённая талантом, красотой, чувством, верным, живым, сама собой образовалась она и…
– Помилуйте, Пушкин, как вижу, вы пасынок здравого рассудка больше, чем я.
Пушкин вспыхнул:
– Не станете же вы отрицать, что подлинника Семёнова никогда не имела?
Он не смутился:
– Стану, конечно. Мадемуазель Жорж[55] служила ей подлинником, а учителем драматического искусства был у ней сперва Дмитревский, потом Гнедич, что естественно изъясняет все её недостатки, к тому ж если Гнедич не растолкует ей роль, так она в ней решительно ничего не поймёт.
– Согласиться никак не могу! Бездушная французская актриса Жорж, лукавый Дмитревский[56] и вечно восторженный Гнедич[57] могли только ей намекнуть на глубокие тайны искусства, которые сама она поняла откровением своей гениальной Души!
– Это всё ничему не учась?
Пушкин так увлёкся Катериной Семёновой, что не отвечал на вопрос.
– Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевлённых движений, орган чистый, ровный, приятный и часто порывы вдохновения истинного, всё сие принадлежит Семёновой безраздельно и ни от кого не заимствовано, разве этого не видать? Она украсила несовершенные творенья несчастного Озерова и сотворила роли Мойны и Антигоны. Она одушевила измеренные строки Лобанова[58]. В пёстрых переводах, составленных общими силами, которые, по несчастью, нынче сделались слишком обыкновенны, мы одну Семёнову видим и слышим, и гений актрисы удерживал на подмостках все сии плачевные произведения союзных поэтов, от которых поодиночке отрекался каждый отец. Нет, Семёнова не имеет соперницы. Пристрастные толки и минутные жертвы, принесённые новости прекратились. Она осталась самодержавной царицей трагической сцены.
Неужели молодой человек так влюбился в Катерину Семёнову, что не видит очевидных её недостатков? Неужели не знает, что в соперницы, и не без основания, Семёновой пророчат Валберхову? Впрочем, что ж он стариковски ворчит, все влюблённые слепы, истина вечная. То-то Голицыну радость, коли узнает. И он с лёгкой иронией вставил:
– Ваше красноречие просто великолепно. Вам осталось с тем неё жаром сказать похвальную речь об Истоминой.
– Она блистательна, полувоздушна, она…
Он весело перебил:
– Таким образом, вы по-прежнему влюблены и в ту, и в другую?
Пушкин сердито нахмурился:
– Вы дьявол, с вами ни об чём серьёзном нельзя говорить.
– Только это вы и желали мне доказать своей восторженной речью, посвящённой талантам Семёновой?
– Нет, я желал доказать, что наша публика своей холодностью, слишком похожей на вашу, исправно губит театр. Если в половине седьмого одни и те же лица являются из казарм и совета занять первые ряды абонированных кресел и лож, то для них это более условный этикет, чем приятное отдохновенье.
– Позвольте вам возразить: театр, разумеется, не этикет, однако театр и не приятный отдых для публики, вовсе нет. В городах эллинов посещение театра почиталось обязательным для всякого гражданина, там театр служил воспитанию граждан, он был для них источником просвещения. Так вот, я вас спрошу: не доказывает ли это ежевечернее появление в театре одних и тех же лиц из казарм и советов желание нашей публики просветиться? Не настало ли и для нас то блаженное время, когда театр может воздействовать на умы граждан и воспитывать их?
Пушкин негодовал:
– Просвещение! Воспитание! Но сии великие малые люди нашего пошлого времени, носящие на лице своём однообразную печать скуки, спеси, глупости и житейских забот, неразлучные с образом их вседневных занятий…
Он решительно перебил:
– Позвольте, на том углу, едва ли не ближе, вы с тем же пламенем уверяли меня под присягой, что они слишком глубокомысленны и замучены судьбами Европы и даже Отечества.
– Они всегдашние передовые зрители, нахмуренные в комедиях…
– В наших комедиях, точно, не расхохочешься.
– Зевающие в трагедиях…
– Помилуйте, в наших трагедиях как не зевать?
– Дремлющие в операх…
– Да наши оперы усыпят хоть кого!
– Внимательные, быть может, в одних только балетах, не должны ли по необходимости охлаждать игру самых ревностных наших артистов и наводить на их души томность и лень, если только их самих душой одарила природа?
Слава Богу, в этой пленительной болтовне о том да о сём он рассеялся от того, что попал в водевиль, и посоветовал мирно, ощущая себя беззаботным и лёгким:
– Ставьте в наших театрах Шекспира, и вы не отыщете в артистах ни лени, ни томности, и эта же публика, портрет которой вы так сатирически представили мне, ни за что не уснёт, даже если после казарм и советов захочет уснуть. А у нас, помилуйте, кого нынче ставят у нас?
Пушкин тотчас съязвил:
– Пустые комедийки Шаховского и тяжеловесные переводы Катенина, ваших лучших друзей.
Он дружески возразил, ничуть не сердясь:
– Помилуйте, к чему горячиться? Я тоже не нахожу большого искусства в комедиях Шаховского, однако в них прекрасный, живой, разговорный язык, недурные стихи, каких у ваших лучших друзей не найдёшь днём с огнём, его комедии злободневны, они колют и жалят и вызывают целые бури в партере, тогда как от слезливых стенаний ваших лучших друзей так и хочется утопиться в московском пруду.
Пушкин горячо возмутился:
– Этот шут, погубивший из зависти Озерова!
Горячность Пушкина его поразила, он спросил, поворотившись всем телом к нему, остановись перед ним:
– Мой милый, зачем вы так легковерны? Всё это вздорные сплетни. У Шаховского самый кроткий и ласковый нрав, кого ему погубить? Семёнова в те поры взбунтовалась, не хотела слушать его и портила роли одну за другой, князь отыскал и взамен ей отлично приготовил Валберхову, которая всем хороша, но по статуре не подходит на роли цариц, к тому же тогдашнее общество в самом деле волновали судьбы Европы, вот причины падения последней трагедии Озерова. Что до Катенина, то язык его переводов ближе к высокому стилю, каким должно трагедии переводить и писать, чем у всех прочих кропателей, занятых теми же переводами, однако ж без его основательной подготовки к труду, вы не согласны со мной?
– Как можно восторгаться Катениным, влюблённым в холодного фразёра Расина?
– Ах, Пушкин, остыньте, мы все не годимся Катенину и в подмастерья. Скажу о себе: я слабый и всё ещё недостойный его ученик. Подружитесь с ним при первой возможности, не пожалеете, право, не то туманы, печали и слезливые вздохи окончательно расслюнявят ваш самобытный и сильный талант.
– Если он только есть у меня.
– Всякому таланту необходима суровая школа, и другой такой школы, как школа Катенина, у нас теперь нет.
– Своим учителем я выбрал Жуковского. Ах да, совсем позабыл, вы, кажется, торопились куда-то?
– Нет, это я вас так бессовестно задержал. Прошу меня не бранить. Разболтался на старости лет. Прощайте, я почти дома уже.
Он взял руку Пушкина, пожал её дружески, свернул тотчас за угол и вскоре был у себя.
Бог с ним, с какой стати в учители выбрал Жуковского? Вот сам себе удружил!
Однако ж он не сердился. Случайный и смешной разговор на ветру расшевелил и успокоил его. Глаза Шереметева как будто на него не глядели. Бешенство, рождённое новым пасквилем Загоскина, точно присыпало пеплом. Другая, любовная рана тоже ныла только слегка.
Он согрел руки перед пылавшим камином, засветил в двух шандалах десять свечей, откинул без стука чёрную крышку рояля, блеснувшую лаком, сел перед ним, уже погруженный в себя, и с силой ударил по клавишам. Басы загудели торжественно, грозно. Им стройно и смело отозвались альты. Они о чём-то заспорили, заговорили друг с другом, и он, потянувшись за ними душой, слушал, слушал и вызывал всё новые сильные звуки.
Вольтер, старый шут, его давний кумир, вдруг ни с того ни с сего явился на ум, и музыка его озорно засмеялась.
Он не слышал ни дверного звонка, ни громкого стука в сенях и остановился лишь оттого, что изнемог и устал, и тут в немой тишине вдруг взмолился взволнованный голос Каверина:
– Продолжай, Александр, ради Бога, дай послушать себя!
Он вздрогнул и стремительно обернулся:
– Экой шут!
Каверин стоял, опершись плечом о косяк:
– Честное слово, я позабыл обо всём.
Он посоветовал через плечо, вновь обращаясь к роялю:
– Кликни Сашку, вели тринкену принести, опомнишься сей же часец.
Голос Каверина вдруг опустился и задрожал:
– Ты знаешь, Васька помер вчера.
На ум пришло торжественно и жутко:
Глагол времён! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает;
Зовёт меня, зовёт твой стон,
Зовёт – и к гробу приближает…[59]
Он сидел неподвижно, разминая утомлённые пальцы, говоря так, словно перед кем-то извиняться хотел:
– Я не выходил никуда, нынче только в театр.
– Я искал тебя там, сказали, что был да ушёл.
Он поднялся в каком-то тумане и задул все горящие свечи, оставивши только одну:
– Стало быть, душа его отошла…
Каверин прошёл к столу, но не сел.
– Отец рвёт на себе в отчаянье волосы, однако ж причитает притом, что он этого ждал, что иначе это и кончиться не могло, что Васька сам во всём виноват, что он даже рад, что это кончилось скоро, что Васька наконец перестанет позорить семью и что он обратится сам к государю, чтобы дело было оставлено так и чтобы никто из участников не был наказан.
Александр негромко сказал, подавленный известием меньше, чем думал:
– Отец, в сущности, прав.
Каверин отчего-то заторопился, всё ещё стоя как-то неловко перед столом:
– Якубович, как прежде, готов всё дело взять на себя. Однако ж смерть Васьки точно помрачила его, он обвиняет в чём-то себя и уверяет чуть не прохожих, что и ты за Истоминой волочился и что он этого греха не позабудет тебе.
Александр точно обрадовался и только сказал:
– Это сбывается то, что над нами всеми должно было сбыться, увидишь ещё.
Каверин опустился на стул, с подозрением глядя, спросил:
– На что ты решился?
Он поёжился и не тотчас сказал:
– Пока ни на что.
Каверин прищурился, холодно бросил:
– Тогда я пошёл.
Он предложил, недобро взглянув:
– Тринкену задай, авось полегчает.
Каверин покачал головой, поднимаясь:
– Что-то в горло нейдёт, как узнал.
Он обмер и долго сидел неподвижно.
Очевидно, Завадовский не мог не стрелять. Все участники должны быть в этом согласны, кто был там и видел и слышал те исступлённые Васькины крики.
Не откажись он от глупого вызова Васьки, он стоял бы на месте Завадовского и тоже был бы поставлен в необходимость стрелять и, должно быть, убить, если не хотел быть убитым, поскольку другого промаха мог Васька не дать.
Однажды, дурачась, он нарочно пулей выбил у противника пистолет, однако та дуэль обыкновенной была, более шутовской, пустяковой, из вздора.
Было бы нельзя таким способом остановить взбешённого Ваську, как нельзя допустить быть убиту из глупости.
Впрочем, много ли это меняет?
Итак, отец Шереметева, может быть, станет просить о помиловании, да в таких обстоятельствах и просьба отца едва ли поможет, это как раз глупая власть любит себя на пустом показать.
Стало быть, будут все участники сосланы, исключая, естественно, доктора.
Сошлют Богдана Иваныча тоже, а жаль.
Что за дурацкая мысль пришла ему в голову – тащить за собой добрейшего, хоть и трусоватого немца.
Наворотил пропасть безрассуднейших дел, по плечу хоть кому, без замыслов чрезвычайных и важных.
К тому ли так долго, так обстоятельно готовил себя?
Да, вот и потеряна жизнь, вся в безвестности пропадёт, в какой-нибудь грязной дыре, в гарнизоне, снова в полку, где пьют и в карты играют гусары, артиллеристы, пехота, все роды войск, куда ни сошлют.
Однако почему ж обязательно пропадёт? Ведь бывал не однажды изгнан Вольтер?
Что же Вольтер? Вольтер проводил годы изгнания в Лондоне, в приятном обществе литераторов, журналистов, философов, не в русском армейском полку, а у нас, бывает, отправляют подальше, чем в Лондон, – у нас, случается, отправляют в Сибирь.
Александр почти машинально поднялся, свою любимую книгу взял с края стола и, стоя, поднеся очень близко к глазам, принялся разбирать при слабом свете свечи, отчасти по догадке, отчасти по памяти, для того ли, чтобы посторонним занять свои мысли, надеясь ли укрепить свою мысль и свой дух:
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей»[60].
Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь.
И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своё и лист которого не вянет, и со всем, что он ни делает, успеет.
Не так нечестивые: но они – как прах, взметаемый ветром.
Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники – в собрании праведных.
Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет…»
Выходило, что не следовало ему обращаться к суду нечестивых, но сам он был нечестив, а на суд его всё равно призовут, не на тот, который, согласно с законом, соберётся по делу несчастной дуэли и убиения штаб-ротмистра Шереметева Васьки, а на иной, высший суд, где не утаишь и зёрнышка правды, где всякая вина станет явной виной, и не устоять ему на том высшем суде, если нынче суд совести не направит его на праведный, единственно истинный путь.
Несколько дней неторопливо и мрачно размышлял он об этом, об единственно неподкупном суде, о великом Вольтере с костяной головой, с провалившимся, саркастически улыбавшимся ртом, и о пути своём дальнем, не ведомом пока никому, позабывши о прочем, не притрагиваясь к еде, а в понедельник его вызвали дать показание, и он, сосредоточенный, бледный, надевши чёрный сюртук, явился, ещё не решив, что ответит земному суду.
За длинным казённым столом, покрытым, как водится издавна, потёртым красным сукном, его в полном молчании встретили двое. Полковник Ланской, безучастный и хмурый, склонив круглую голову, бессловесно и медленно отрывал от листа полоски бумаги и вертел из них тонкие трубочки, точно солдат, и хотел закурить.
Полковник же Ковалев, затянутый в тесный мундир, с глубокой морщиной, прорезавшей невысокий скошенный лоб, с неподвижным взглядом красивых женственных глаз, тягуче и важно читал по бумаге, вскидывал голову и бросал равнодушный вопрос:
– Что вам известно об обстоятельствах дуэли между камер-юнкером Завадовским и штаб-ротмистром Шереметевым, имевшей быть двенадцатого сего ноября, в два часа пополудни, на Волковой поле?
Александр тотчас решился, глядя на этот скошенный лоб, и ответил твёрдо, спокойно:
– Мне об этом деле ничего не известно.
Ковалев читал далее, не взглянув на него:
– Состояли ли вы в знакомстве с штаб-ротмистром Шереметевым, и если состояли, как коротко?
Он овладел собой, даже несколько улыбнулся в ответ:
– Да, состоял, и в очень коротком.
– Состояли ли вы в знакомстве с балериной Истоминой, и если состояли, то коротко ли?
– Да, состоял, и в очень коротком, однако отношения эти за пределы самых дружеских не выходили.
– Балерина Истомина показала на следствии, что «когда она была пятого числа, в понедельник, в танцах на театре, то знакомый как ей, так и Шереметеву, ведомства Государственной коллегии иностранных дел губернский секретарь Грибоедов, часто бывший у них по дружбе с Шереметевым и знавший о ссоре её с ним, позвал её с собою ехать к служившему при театральной дирекции действительному статскому советнику князю Шаховскому, к коему по благосклонности его нередко езжала, но, вместо того, завёз на квартиру Завадовского, но не сказывая, что его квартира, куда вскоре приехал и Завадовский, где он, по прошествии некоторого времени, предлагал ей о любви, но в шутку или в самом деле, того не знает, но согласия ему на то объявлено не было, с коими посидевши несколько времени, была отвезена Грибоедовым на свою квартиру». Подтверждаете ли сие?
Во всём её показании, довольно лукавом, самым опасным ему представлялось именно то, что Завадовский предлагал ей любовь, и Александр с намерением ответил уклончиво:
– Да, подтверждаю, но единственно то, что пригласил её ехать для того только, чтобы узнать подробнее, как и за что она поссорилась с Шереметевым, и как жил до сего времени за неделю на квартире графа Завадовского, то и завёз на неё, куда и Завадовский в самом деле вскоре приехал, но объяснял ли он ей о любви, я не помню, только провели вечер все вместе, а после отвёз Авдотью Ильинишну в её квартиру.
Ковалев выслушал, казалось, ещё равнодушней и кивнул своему адъютанту:
– Пригласите графа Завадовского.
Завадовский тотчас вступил и встал рядом с ним, спокойный, но тоже бледный, и Ковалев, вновь с бумагой в руке, обратился к тому:
– Вы показали, что вы «её в театре, на лестнице лично приглашал к себе, когда она оставит Шереметева, побывать в гостях у него, но с кем она приехала к нему, не знает и о любви, может быть, в шутках говорил и делал разные предложения». Однако губернский секретарь Грибоедов показывает, что это он, губернский секретарь Грибоедов, желая «узнать подробнее, как и за что она поссорилась с Шереметевым, и как он жил до сего времени за неделю на квартире графа Завадовского, то и завёз на оную, куда приехал и Завадовский». Как можете изъяснить вы сие разногласие?
Завадовский сухо ответил, не меняясь в лице, глядя на полковника поверх головы, точно ни знать ни видеть его не хотел:
– В таком случае я беру назад своё показание и заявляю, что ошибся, приняв визит Истоминой на свой счёт.
Ковалев поглядел на Завадовского долгим немигающим взглядом тупого служаки, пожевал ярким чувственным ртом и наконец приказал:
– В таком случае прошу вас удалиться.
Подождал, пока Завадовский выйдет своей размеренной, неторопливой походкой, и вновь, склонившись к неразлучный бумаге, обратился к нему:
– Далее Истомина показала, что между нею и Шереметевым произошло примирение и что в течение двух следующих за тем дней Шереметев замучил её, расспрашивая о том, была ли она у кого-нибудь во время их ссоры, причём грозил её застрелить и вынудив у неё признание о её визите к Завадовскому, после чего Шереметев и вызвал его на дуэль. Со своей стороны, секундант и друг Шереметева лейб-гвардии уланского полка корнет Якубович, был спрошен, утверждал, что причиной дуэли был какой-то «поступок Завадовского, не делавший чести благородному человеку», однако же разъяснять эти слова отказался, ссылаясь на обещание хранить тайну, данное им умирающему Шереметеву, а от очной ставки с Завадовским уклонился, прося «пощадить его, не дав случая видеть убийцу друга его и виновника всего его несчастия». Прошу изъяснить, что вам известно о причинах оной дуэли?