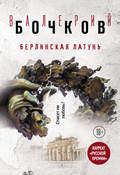Валерий Бочков
Рисовальщик
А утром, с пересадкой в Хитроу, я был уже в Эдинбурге. Моя персональная выставка проходила в отеле «Корона Скандинавии», на открытии струнный квартет играл Моцарта и Вивальди. Официанты во фраках разносили шампанское, дамы в узких платьях с голыми спинами хвалили мои картины, я улыбался и с достоинством целовал их тощие руки. Интервью с моей фотографией опубликовал журнал «Шотландец», на выставку привели даже какого-то типа из «Сотбис». Успех превзошёл ожидания организаторов выставки и уж тем более мои – мы продали почти все картины. Денег я заработал много, запросто мог купить целый этаж в моей высотке. «Падшего ангела» приобрёл местный лорд, картина и сейчас висит в его замке. Бывая в Эдинбурге, я непременно навещаю его, мы пьём чай у камина, он что-то рассказывает, но из-за его шотландского акцента я не понимаю и половины.
Я возвращался в Москву, в Шереметьево меня встречала толпа друзей и знакомых – орали через загородку какой джин-бурбон-скотч прихватить в дьюти-фри; прямо из аэропорта всем табором мы неслись на Таганку: раздача подарков и пир горой были непременным ритуалом каждого возвращения на родину. Под утро гости разъезжались, Янка стягивала новое платье, ботфорты на шпильке и в пьяной неге отдавалась мне на ковре гостиной. Прямо под портретом моей героической бабки и парадной саблей, подаренной самим Ворошиловым.
А в январе я уже встречался с новым импресарио – Яном-Виллемом Зюйдтраппом, который переманил меня из Эдинбурга в Амстердам. Мы договаривались о новой выставке в мае, подписывали контракт на серию плакатов для Голландской регаты. Я возвращался в Москву и работал. А через три месяца улетал снова.
У меня брали интервью, я участвовал в околокультурных репортажах местных телеканалов. Обычно после спорта и перед погодой они показывали мои картины, потом меня – я говорил банальности о живописи, о культурных связях и гуманитарных ценностях. Ян-Виллем считал интервью важнейшим элементом маркетинга, мне они казались пустой тратой времени.
Однажды, явно по недоразумению, я угодил в двухчасовую программу ВВС; уже само название насторожило меня – «На краю пропасти», – но было поздно: меня усадили в кресло перед микрофоном и принесли стакан воды. Включился красный фонарь с надписью «Прямой эфир», прозвучал джингл. Ведущий, тощий малый, похожий на стручок и Зигмунда Фрейда одновременно, отвратительно красивым баритоном представил участников. Кроме меня в студии оказались смутно знакомый депутат и известный писатель-прозаик. У первого была репутация либерала-реформатора, второй был осмотрительным диссидентом и заядлым бабником. Его я встречал пару раз в ресторане Дома литераторов. Непременно с пёстрым шарфом на шее и в штанах брусничного цвета.
Меня представили как художника и культуртрегера. Выяснилось, что я участвую в социально-политической дискуссии за «круглым столом».
За всю программу я произнёс не больше дюжины фраз.
Депутат говорил сбивчиво и скучно. Он явно мучился похмельем. Писатель быстро перехватил инициативу, заткнуть его не мог даже ведущий. Образность речи и умелость фраз завораживали. К тому же говорил литератор страстно и азартно, с эффектными модуляциями – от зловещего шёпота до рокочущего рыка. Примерно так звучала бы речь Троцкого, если бы текст ему написал Алексей Толстой.
– Россию корёжит! – сипло восклицал писатель. – Горбачёвские фантазии надулись и лопнули болотным пузырём. Партия – честь, ум и совесть нашей эпохи – оказалась гурьбой трусливых и вороватых идиотов. Русский мужик не простил ни заячьего бегства из Восточной Европы – кровью отцов политой Польши, Венгрии, Чехии и Словакии…
Ведущий попытался вклиниться, но был остановлен властным жестом писательской руки.
– Да что там Европа – латышей да чухонцев не смог удержать «меченый»! – Прозаик с душой хлопнул себя по ляжке. – Россия! Великая империя! Колосс рассыпался и рухнул в грязь!
Депутат проблеял что-то про суверенитет, демократические ценности и новый путь.
Писатель отмахнулся даже не взглянув на него.
– Мужик! Русский мужик! Соль земли Русской! – с рыданием вскричал он. – Вы предали его! Иуды!
Депутат поперхнулся водой. Ведущий неохотно достал из нагрудного кармана платок в шотландскую клетку и принялся вяло протирать свои докторские очки.
– Но пуще всего обидела мужика проповедь трезвости – тут уж Русь запила назло, да так лихо, что и остановиться уже мочи не было. В хмельном чаду творились роковые чудеса: деньги обращались в бумагу, по улицам громыхали танки, с пьедесталов свергались бронзовые идолы – наступал конец времён. Надвигался русский апокалипсис.
– Да! – Ведущему удалось вписаться в паузу. – Апокалипсис! Это как раз тема одной из картин нашего гостя. Как мастер создания зрительных образов, что вы можете сказать… – Он поощрительно кивнул на мой микрофон.
Я поправил наушники и промямлил какой-то труизм. Литератор хищно зыркнул на меня и вдруг радостно поддакнул:
– Художник прав! Он потрохами чует смерть! На то он и художник!
Что за бред? Я растерялся и замолчал. Прозаик выставил большой палец и плотоядно подмигнул мне. Я вспомнил, что про него ходили слухи насчёт малолеток. И что контора его не трогает, поскольку он стукач. Мне захотелось исчезнуть.
– Но справедливость… – проблеял депутат.
Он пытался приободриться, но прозаик был неукротим:
– Идея вселенской справедливости, столь милая русской душе, отошла на второй план – какая уж тут справедливость к чертям собачьим?! – Писатель вошёл в раж, он уже орал в голос. – А вот отомстить кровопийцам мечталось страстно, до зубовного скрежета. Коммунистам да чекистам – вот кого на вилы! Вот кого на площадях вешать! За голод, за страх, за унижения – за расстрельные команды да колымские этапы. За чистые руки, холодные головы и горячие сердца. Власть выпала из рук коммунистов. Заводы остановились, встали поезда, вся страна вышла к обочине торговать никому не нужным хламом, рядом с кухаркой стоял профессор, но даже он не мог объяснить, что творится. «Титаник» уходил под воду, но даже оркестр на палубе не играл! А лодок на нашем корабле не было и в помине! Опускается ледяная ночь, «Титаник» тонет, мы идём на дно вместе с ним. Мы все идём на дно… – Писатель зловещим взглядом оглядел всех нас, включая оператора за стеклянной перегородкой. После перешёл на свирепый шёпот: – Кончилась великая Россия… Россия Пушкина и Гагарина, Чайковского и Столыпина. Рухнули Рюрики, кончились Романовы, нет больше ни Ленина, ни Сталина. Теперь масть держат ражие парни с боксёрскими лицами; бритые под ноль, в спортивных штанах и кожанках. Они отличаются лишь воровскими татуировками и принадлежностью к той или другой банде, которые даже официально теперь именуются уважительно – «группировка». «Ореховские», «Подольские», «Тамбовские» – они вчера контролировали рынки и ларьки, сегодня покупают металлургические заводы на Урале! Банки, рудники и шахты, аэропорты и флотилии принадлежат бандитам!
Повисла пауза. Ведущий положил очки на стол и прикрыл глаза ладонью.
– Не вы! – Гневным пальцем прозаик ткнул в депутата. – И не ваша клоунская дума. И не ваш пропойца Ельцин!
Депутат выронил стакан, тот мягко стукнулся о ковёр.
– Бандиты! – устало выдохнул писатель. – Воры и убийцы! Вот настоящие хозяева новой России!
6
Лето ещё было или уже наступил сентябрь – помню не точно. Впрочем, роли это не играет, я только вернулся из Амстердама и Янка уговорила меня рвануть на Кипр – на недельку-другую – «расслабиться». От чего ей следовало расслабиться, я не спрашивал. Тогда она увлеклась йогой, даже бросила пить и курить, часами валялась на ковре, слушая занудные индусские напевы.
Настроения отдыхать не было, галерейный бизнес буксовал, Ян-Виллем с европейской деликатностью уверял, что спад – явление сезонное. Я ему не очень верил – последняя выставка стала настоящим провалом, денег от продаж едва хватило покрыть наши расходы. Впрочем, прощаясь в аэропорту, он намекнул на серьёзность проблемы. Если перевести щепетильные английские фразы на грубый русский, то мне следовало кардинально изменить абсолютно всё: художественную манеру, тематику, технику и формат. Своими оттюканными до звона миниатюрами я накормил зрителей, им наскучили боярышни и королевичи, богатыри, колдуньи и прочая былинная нечисть. Надоел славянский орнамент и среднерусский пейзаж – все эти туманы, берёзы и закаты над болотами. Пора переключаться на нечто более абстрактное, выходить в трёхмерное пространство, работать с фактурой и объёмом, использовать даже коллаж – почему бы и нет?
До Кипра лететь три часа, мы приземлились в Ларнаке, к ужину добрались до отеля. Утро выдалось чистым и тихим – мёртвый штиль: бирюзовая гладь под синим небом. Песчаный пляж, при пляже бар под соломенной крышей, за стойкой смуглый красавец с лицом конокрада. В дубовых кадках банановые деревья с гроздьями спелых бананов – явно для экзотики. Плюс пара чаек да парус вдали. Яна – лимонный купальник, шляпа, стрекозьи очки – устроилась под зонтом с книгой и в наушниках. У меня после вчерашнего ломило в висках. Я недолго ломался и быстренько уговорил себя заказать пиво.
Плавать не хотелось, настроение было на нуле, мне принесли второй стакан. Чёртов Кипр, дурацкое море, идиотский пляж – я уже костерил себя за сговорчивость: нужно было работать, а не загорать. Янка покачивалась в такт беззвучной музыке, должно быть, опять свою индусскую хрень слушала. Я поймал себя на том, что мысленно назвал её дурой. Улыбка, даже не улыбка, а ухмылка – сытая румяность и округлость, – с таким же кукольным лицом она внимала вчера моим стенаниям, когда я, опустошая мини-бар нашего номера, пытался растолковать то ли ей, то ли себе всю серьёзность провала последней выставки.
Яростно скручивал пробки лилипутским бутылкам «Смирнова» и «Камю» – одного пузырька хватало как раз на глоток, – выскакивал курить на балкон и оттуда, через распахнутую дверь, продолжал ругаться и орать. Пытался что-то объяснить, оправдаться, пытался понять, когда, в какой момент, я прошляпил удачу.
– Ведь ещё весной всё шло великолепно! – орал я в кипрскую ночь.
Яна слушала, забравшись с ногами в кресло, иногда называла меня котей и просила так уж сильно не переживать. За фразу «Котя, ты ж у меня гений, всё будет тип-топ, милый» я был готов придушить её прямо в этом кресле.
7
Похмелье от игрушечных бутылочек оказалось совсем нешуточным. После второго пива я задремал. Очнулся в полдень. В синей тени соседнего зонта смуглый конокрад заигрывал с моей женой. Та милостиво ухмылялась, придерживая шляпу, на бритой подмышке краснели прыщики; конокрад ловко балансировал стальным подносом. Фужер, размером со среднюю вазу, с розовым пойлом и пёстрыми цветами был уже в руке Яны. Изредка она склонялась к соломинке, и до меня доносилось детское хлюпанье.
Я поднялся, отряхнул песок и, не оглядываясь, пошёл в сторону пирса. Он белым языком уходил далеко в море. В гулкой голове перекатывался тяжёлый шар. Пока я спал, у меня сгорели колени. Солнце жарило нещадно, солнечные очки остались у шезлонга, но возвращаться не хотелось. К тому же я забыл надеть шлёпанцы. Пирс оказался щербат и колюч, из бетона торчали ракушки, мелкие и острые, как битое стекло. Я добрёл до конца пирса, подошёл к самому краю. Вода тут казалось густой, тёмной, как малахит, эта краска называется «стронций изумрудный».
Граница между морем и небом была резкой и чёткой – небо к полудню выцвело и стало наивно голубым. Там, за горизонтом, лежал невидимый Израиль. Святая земля, Вифлеем, град Иерусалим, река Иордан и Галилейское море, по водам которого гулял Спаситель.
В тех местах существование Иисуса не вызывало сомнений. Казалось, Он только вчера ступал по камням кривых иерусалимских улиц, а в траве Гефсиманского сада, если постараться, можно наверняка разглядеть капли крови из раны, нанесённой мечом Петра, когда он отсёк правое ухо рабу первосвященника. Видел я и Преторию Понтия Пилата, и тот балкон, с которого прокуратор Иудеи взывал к толпе – не вижу я никакой вины в этом человеке. И лишь Голгофа оказалась не холмом с крестами, а невзрачным белым камнем внутри часовни.
В Израиле я провёл две недели, путешествуя из Вифлиема до Хайфы, от Иерихона до Тель-Авива. Видел я Мёртвое море, оно действительно не выглядит живым, в свирепую жару взбирался на крепость Моссада, бродил по рыжим камням пустыни Меггидо, где в решающий схватке сойдутся силы Добра и Зла в конце времён. Повсюду меня сопровождала София – переводчик, гид, чичероне и эксперт по вопросам всего библейского. Поездку, точнее сказать, командировку организовало немецкое издательство «Протестант ферлаг, Гмбх», которое заказало мне иллюстрации и оформление «Евангелия от Иоанна». Книга планировалась в формате ин-фолио с супером и золотым тиснением, с форзацем и фронтисписом, с шмуцтитулами к каждой главе и дюжиной полосных цветных иллюстраций, не считая заставок и декора.
Та поездка стала точкой отсчёта моего взлёта. Сегодня, стоя на краю пирса, я мог обозначить точку падения. Начало – взлёт – падение – конец. Святая земля пряталась за кромкой горизонта, даже невидимая глазу, она точно была там. Я был отличный пловец – бабка возила меня в бассейн «Лужников» с пяти лет, после были «Динамо» и спортивный сектор бассейна «Москва», сейчас три раза в неделю «Чайка» – я запросто могу доплыть до Израиля. Ну не запросто – хорошо, через пару дней доплыву точно. Не могу не доплыть.
Я глубоко вдохнул и вытянул вверх руки. Пружинисто, как в детстве, оттолкнулся от края пирса и, описав пологую дугу, вошёл в воду. Словно нож вошёл, без брызг, без всплеска. Море оказалось даже теплей, чем я ожидал. Лезвия света резали малахит воды. Выныривать не хотелось, и, сделав пару сильных гребков, я ушёл глубже. Дна не было видно, подо мной темнела бездна. Расслабился, скользя по инерции, стравил часть воздуха, пузыри весело понеслись вверх.
Вода отрезвила, ни в какой Израиль я плыть, конечно, не собирался. Кураж исчез, осталась пустота – скучная жена на берегу и никому не нужные картины в Амстердаме. Идей нет, планов тоже. Плюс – мне уже сорок. Вернее, в данном случае это скорее минус.
А что, если те четыре года были самыми счастливыми в моей жизни? И беда тут даже не в том, что я не заметил этого, а в том, что с этого момента всё покатится под горку. Был пик, а я его прозевал. Как с падающими звёздами – кто-то видит их всегда, а другой в этот миг непременно моргнёт.
Я вынырнул, в метре от меня на поверхности плавало что-то большое и белое, что-то похожее на наволочку от подушки. Это была мёртвая птица. Должно быть, альбатрос или крупная чайка.
Выбраться на пирс из воды не получилось, я только изрезал ладони об острые ракушки. Обратный путь вплавь занял минут пятнадцать. Когда добрался до берега, Яны на пляже не было. Очки и пустой фужер валялись в песке, на лежаке засыхала лужа малиновой гадости; я брезгливо тронул указательным пальцем, липкое, вроде сиропа, осталось на пальце. Огляделся – никого, если не считать храпящего в полосатой тени тента толстого немца. Отдыхающий люд, очевидно, обедал. Бармен-конокрад тоже исчез.
Из-под полотенца я достал сигареты. Чиркнул зажигалкой, но прикурить не успел. От отеля по белой лесенке бежал конокрад. Он бежал прямо ко мне, махал руками и что-то кричал.
В больницу я приехал в мокрых плавках, майке с эмблемой «Роллинг стоунз» и в резиновых шлёпанцах. Доктор сказал, что кровотечение удалось остановить, но беременность пришлось прервать. Он сделал паузу, которая длилась целую вечность. Где-то на греческом бубнил телевизор, какой-то аппарат попискивал, как механическая птица, страшно хотелось курить.
Яна лежала в узкой палате за клеёнчатой шторой гадкого грязно-розового цвета, её лицо казалось не бледным, а каким-то лимонным. Я вошёл и остановился, доктор подтолкнул меня под локоть. Неуместно воняло какой-то экзотической едой, чем-то вроде таиландского карри. На подоконнике стоял горшок с белой орхидеей – одинокий цветок на рахитичном голом стебле. Яна попыталась улыбнуться, вытянула руку. Опасливо, как слепой, я приблизился к кровати. Яна поймала мою ладонь, крепко сжала мои четыре пальца своей птичьей лапкой. Обручальное кольцо впилось в мизинец.
– Больно… – Я высвободил руку.
– Котя…
– Как… – Я запнулся. – Почему? Зачем?
В голове стоял гул, вопросов был много, но ни один я не мог разумно сформулировать и произнести.
– Котя… – повторила она жалобно. – Прости…
– Как…
– Мама сказала, что ты меня бросишь… Без ребёночка. Ведь ребёночек, он же тебя… А мне тридцать же уже – понимаешь?
Тридцать два, отметил про себя, но поправлять не стал. Отрицательно мотнул головой – я действительно не понимал.
– Она сказала, ты в своих поездках… На фотографиях, на тех, там шлюха чёрная с вороньим клювом, она ж не просто так к тебе ластится, так и льнёт, курва бесстыжая, ведь не просто так…
– Яна, – чуть слышно произнёс я. – Ты с ума сошла?
– Ну что я не понимаю? – В голосе появилась материнская сердечность. – Всё я понимаю. Вернисажи и рестораны, бары всякие и варьете…
Медный лик моей тёщи проступил сквозь бледные черты Яны и исчез.
– Какие к чёртовой матери варьете? – Я почти выкрикнул, повторил шёпотом. – Какие варьете?
Яна смотрела мне в глаза, не моргая. Потерянная и жалкая, абсолютно незнакомая баба. Я представил – нет, просто увидел, как она со своей кудлатой мамашей копается в моих вещах, как они подбирают ключи и открывают ящики письменного стола, алчно роются в бумагах – документах и письмах, – разглядывают фотографии, трогают их своими пальцами. А после сидят на кухне и пьют чай «с гостинцами».
– Ты что… думаешь… – Яна проговорила трусливо, осторожно выговаривая звуки, – ты думаешь, что это не твой… не твой ребёночек?
Об этом я вообще не думал. До этого момента.
Должно быть, на моём лице появилось странное выражение, Яна испуганно вжалась в подушку, лицо её скуксилось и она заскулила:
– Ребёночек… наш… – Она выла по-бабьи, кривя мокрый рот. – Котенька мой… Мальчоночка…
Странная смесь жалости и отвращения накрыла меня, я даже сцепил пальцы рук – боялся, что ударю её. Отвернулся, подошёл к окну. Уткнулся лбом в тёплое стекло. Яна продолжала выть и всхлипывать.
– Заткнись… – выдохнул тихо, стекло затуманилось ровным кругом. – Христа ради, заткнись.
Вой тут же смолк. В окно упирались ветки с мелкими розовыми цветами, которые издали можно было принять за сирень. Я пальцем провёл черту в запотевшем круге. За низкими черепичными крышами темнело море. В палате с таким видом должно быть не так страшно умирать.
– Завтра же вылетаем в Москву… – Деревянный голос был чужим. – Ты сразу же начинаешь работать. Где угодно и кем угодно – сразу же! Идёшь работать…
За спиной хлюпнули носом.
– Идёшь работать, – повторил я жёстче. – И ещё…
Хлюпанье тут же стихло. Я затылком ощущал её взгляд.
– И ещё… – Зло сорвав белый цветок, я скомкал орхидею в кулаке. – Чтобы никогда – слышишь, ни-ког-да! – я не видел твоей матери на Таганке. Чтоб духу её в моём доме не было! Никогда!
Когда я произносил эти фразы, они звучали фальшиво и плоско в моём черепе, как монолог у дрянного актёра – ложь в каждом слове, в каждом звуке. Чем больше я говорил, тем сильней я ненавидел себя, Яну, нас вместе.
8
В среду вечером вернулись в Москву. За двое суток перекинулись дюжиной фраз. Я не пытался наказать Яну молчанием, мне физически трудно было обращаться к ней, смотреть в глаза, слушать скорбные вздохи и междометия.
То ощущение, которое появилось в кипрской больнице, – ощущение фальши, муторной скуки и притворства, – словно рыбная вонь от пальцев, теперь преследовала меня повсюду с утра до вечера: в мастерской, когда я пытался работать, когда пил с приятелями, когда старался заснуть под колючим пледом на кожаном диване в бабкином кабинете, когда спросонья заваривал чай на кухне.
Яна, обладавшая кошачьим чутьём и абсолютным талантом адаптации, выбрала единственный правильный вариант поведения – она растворилась в интерьере. Гордая баба устроила бы скандал, умная – собрала пожитки и хлопнула дверью, хитрая сделала бы именно это – затаилась.
Из спальни долетало журчанье телефонных жалоб подружкам, минорные вздохи с кухни, изредка в полутёмном коридоре скользила смиренная тень. Воскресным утром она возникла в дверях мастерской и слабым голосом сообщила, что устроилась уборщицей в наш овощной. Я отложил карандаш. Стараясь не встретиться взглядом, вылез из окна на балкон и закурил. Она постояла ещё минуты три, пару раз всхлипнула, после тихо ушла.
Магазин «Овощи – фрукты» располагался рядом с аркой; возвращаясь домой, я покупал там сигареты, иногда спиртное. Продавщицы знали меня, помнили мою бабку. Высоченный потолок с двумя люстрами на бронзовых цепях, гранитный пол, похожий на плитки горького шоколада, в арочных нишах раньше красовались фрески – пейзажи то ли кавказских, то ли тосканских просторов с апельсиновыми садами и сиреневыми вершинами на горизонте. Теперь фрески замазали салатовой краской, половину магазина сдали каким-то барыгам. Те, хмурые абреки с криминальными лицами, торговали пёстрой дребеденью – пасхальными шоколадными яйцами, индийскими презервативами, сигаретами, пивом, водкой и турецким печеньем.
Я так никогда и не узнал наверняка, устроилась ли Яна уборщицей в овощной. Просто перестал туда заходить, после того как в нашей кладовке откуда-то появились цинковое ведро с вонючей половой тряпкой и пара синих резиновых перчаток.
Тактика жены оказалась эффективной: к концу второй недели я уже почти убедил себя в неоправданной строгости, к тому же я перестал давать ей деньги, что усугубляло чувство вины. До этого деньги лежали в ящике письменного стола в кабинете – пачка стодолларовых банкнот в жестяной коробке из-под дореволюционного монпансье «Марлен Руа». По мере надобности мы просто меняли одну-две купюры на рубли, инфляция и трюки минфина учили быстро: павловская реформа сожрала у меня пять тысяч настоящих советских рублей – наличными! Остальные три тысячи сгорели на счету сберкассы.
Основной мой капитал лежал в Шотландском Королевском банке, уголовную ответственность за валютные операции никто пока не отменял, поэтому я перед возвращением домой просто снимал со своего счёта две-три тысячи, привозил деньги в Москву и убирал их в ящик письменного стола. В жестяную коробку из-под монпансье. Одной купюры с портретом Бенджамина Франклина нам хватало на месяц: билет в купе люкс «Красная стрела» стоил пять долларов, банкет с икрой и шампанским в ресторане ЦДЛ на дюжину персон – сорок – пятьдесят долларов, двухлетний «жигуль» шестой модели можно было купить за триста пятьдесят, трёхкомнатную квартиру в моей высотке – за две тысячи долларов.
9
К понедельнику чувство вины стало невыносимым. Прямо с утра, после того как Яна, демонстративно погремев ведром в коридоре, захлопнула входную дверь, я начал обзванивать знакомых. Диплом журфака, опыт работы на радио и в литературном журнале нынче котировались не слишком высоко, больше ценилось умение торговать или драться. К полудню, когда у меня уже был список из трёх позиций, неожиданно перезвонил Мещерский и радостно сообщил, что только что уволил Катьку и готов взять мою супругу на должность администратора ресторана Дома литераторов. Меня всегда слегка настораживала излишняя дружелюбность Мещерского по отношению к Яне. На мой вопрос о квалификации он ответил просто:
– Да что там уметь – ты Катьку видел? Ноги, сиськи и жопа – вот и вся квалификация! Твоя Янка по сравнению с ней Эйнштейн и Мадонна в одном комплекте. Привози завтра ближе к вечеру, всё оформим, заодно и перекусим. Тут как раз осетринку подвезли, горячего копчения, нежнейшая. Трудовую книжку не забудь!
Ночью Яна пришла ко мне в кабинет, стянула через голову рубашку, легла рядом на диван. То была самая странная близость – ни я, ни она не произнесли ни единого слова. Мы не целовались, она всё проделала сама, сев на меня, молча и неторопливо, будто делала массаж или проводила сеанс физиотерапии, – должно быть, так бывает с проститутками. Закончив, она бесшумно поднялась, захватила ночную сорочку и ушла.
Следующим вечером я тихо вернулся в спальню.
Склеенная ваза – метафора, конечно, так себе, на троечку, но именно такой вот вазой виделись мне наши новые отношения с Яной: трещины почти не заметны, но цветы не поставишь. Воду в такую вазу наливать не стоит.
Мы были муторно вежливы друг с другом. Просто как А. А. Каренин и супруга его Анна Аркадьевна. Спасительным оказался режим новой работы: она возвращалась поздно, после одиннадцати, я уже читал в постели или притворялся спящим. По утрам Яна дрыхла до десяти, к этому времени я уже вовсю работал у себя в мастерской.
Работа не клеилась ни в какую. Ну совсем никак. Я комкал и рвал эскизы, идеи казались банальными и скучными. Пошлые и шаблонные приёмы – вторичный мусор, который уже был у кого-то. Причём был интересней, живей и оригинальней, чем у меня. Я снова срывал лист с подрамника, мял в тугой комок, бросал в угол. Вылезал на балкон, вытаскивал сигареты. Теперь я больше времени перекуривал, чем рисовал.
Ян-Виллем не звонил, я ему тоже. Дни тянулись мучительно и бессмысленно, уже к трём невыносимо хотелось выпить. До половины четвёртого я держался, потом шёл в гостиную и, прихватив бутылку коньяка, возвращался в мастерскую. Отхлёбывал из горлышка, так казалось безобидней, вроде как не пьёшь, а так чуть глотнул – вроде бы понарошку.
Коньяк помогал. Нечто вроде кокона – прозрачной и прочной скорлупы формировалось вокруг меня, некая защита от враждебной среды снаружи. Что-то вроде скафандра для выхода в открытый космос. Для паники повода нет, твердил я, стараясь заснуть. Яна приходила, не касаясь меня, ложилась рядом.
Страшнее всего было странное чувство то ли тотальной тоски, то ли абсолютного одиночества, когда я просыпался среди ночи рядом с ней, она спала не просто тихо – беззвучно; за окном висела густая чернота, немая и плотная, я прислушивался к её дыханию, пытался уловить хоть какой-то шорох или шелест с улицы. Ничего – пустота! То был странный глухой час, когда никто никуда не шёл и не ехал. Думаю, именно от этого безмолвия я и просыпался. Необъяснимый ужас накрывал меня. Точно бык на бойне, звериным инстинктом чуял я – спасения нет. Мир летит в пропасть, и я лечу вместе с ним. Лишь мой неисправимый инфантилизм и дьявольское везение имитировали жизнь – надежду и будущее. Я успешно прозевал все знаки гибели, закрывал глаза и не желал видеть знамения. За мишурой триумфа пряталась непоправимая беда, под позолотой скрывалась ржавчина, под румянами – тлен: покойник выглядит даже лучше, чем при жизни, но это не повод отменять похороны.
Симуляция счастья – комбинация ингредиентов в правильной пропорции: деньги, удача плюс отрицание реальности с помощью алкогольных напитков крепостью выше сорока градусов – это не более чем умелая декорация. Золотой серп месяца нарисован на бархате чёрного неба, натянутом на обычную фанеру, рыцарский замок на живописной скале, туманные сады и таинственное озеро с лунной дорожкой – никакое это не чудо, а простая оптическая иллюзия. И та тропа, что вьётся и уходит в манящую даль, никуда она не ведёт на самом деле.
Никуда.
10
Кадры крушения поезда в замедленной съёмке – мы все их видели, они завораживают. Я нахожусь в этом поезде, сижу в предпоследнем вагоне у окна. Я смотрю на вас. Вот я махнул вам рукой – теперь видите?
В ящике письменного стола среди мелкого канцелярского хлама и откровенного мусора мне удалось раскопать записную книжку с деловыми контактами. Я не открывал её года три. Первым делом решил позвонить Саше Архутику. Он работал в «Молодой гвардии», и помимо его «Собеседника» там издавались «Вокруг света», «Техника молодёжи» и ещё пяток журналов, куда я когда-то делал иллюстрации и рисовал обложки. После трёх гудков трубку подняла тётка с провинциальным выговором.
– Архутик? – Она сочно гыкнула. – Это чё такое?
– Главный художник журнала «Собеседник».
– Нету тут никаких журналов, – радостно оповестила она меня. – Компьютерная фирма тут «Консул-М». Компьютер желаете приобрести? Элитной конфигурации?
Слово «компьютер» ей удалось выговорить настолько мерзко, что я тут же нажал отбой.
«Химия и жизнь» не отвечала. Андрей Луцкий уволился из «Кругозора», Васильев ушёл из «Детской литературы» год назад, «Векта» перешла с книг на подарочные альбомы про сокровища Кремля и Золотое Кольцо России, Никита из «Коммерсанта» обещал перезвонить, если что-нибудь проклюнется.
В рекламном отделе «Интуриста» ни Рады, ни Коноваловой не осталось, новый арт-директор хамовато заявил, что использует только фотографии, поскольку иллюстрации сегодня не актуальны.
Телефонные звонки напоминали прогулку по кладбищу.
«Работница» и «Крестьянка» честно признались, что у них просто нет бюджета, чтобы платить гонорары художникам. «Здоровье» ютилось в одной каморке, сдавая четыре редакционных комнаты под офис каким-то бандитам.
– Зачем бандитам офис? – по инерции спросил я.
Позвонил Димке Горохову, мы с ним учились на худграфе, потом он ушёл в галерейный бизнес. Года три назад я был на вернисаже в его галерее где-то в районе Чистых прудов. Дела у Димки явно шли в гоу.
– Старик! – обрадовался Горохов. – Не поверишь, как раз собирался тебе звонить!
Я закурил и благодушно выпустил дым в потолок.
– Слышал-слышал про твои победы. – Горохов говорил быстро и радостно. – Эдинбург – это ж триумф, старик! Европейский фестиваль искусств – персональная выставка! И серия к «Страстям по Иоанну» – слов нет! Титан!
Горохов ещё минуты три восторгался моими успехами, я его слушал, потом перебил:
– Димыч, ты говоришь, что хотел мне звонить?
Повисла неприятная пауза. Горохов кашлянул.
– Старик, мою галерею отжимают. – Он шумно вдохнул и скороговоркой продолжил: – Особняк в центре, девятнадцатый век, только ремонт сделал – в марте закончили, паркет реставрировал, печи голландские с изразцами… – Он выматерился. Горохов не ругался матом даже в институте. – Старик, я помню, у тебя бабка была козырная, может, какие-то связи остались? У тебя… – Горохов запнулся. – В Минюсте? В прокуратуре? Или на Лубянке?
– Димыч…
– Наша юристка вчера уволилась. После встречи – представляешь? Встретилась с ними и заявление на стол. Не хочу, говорит, чтоб дети мои сиротами росли…
– Димыч…
Он снова выругался и замолчал.
– А ты Глебу звонил? – спросил я скучным голосом. – У него вроде папаша…
– Глеб свалил. В Германии он. В Дессау преподаёт.
– В Баухаузе?
– Ага, в нём самом.