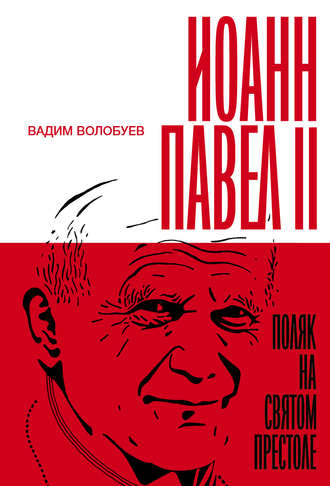
Вадим Волобуев
Иоанн Павел II: Поляк на Святом престоле
Заметим, что эти донесения описывают ситуацию спустя двадцать пять лет после установления коммунистической власти, когда атеизация населения уже принесла некоторые плоды. Что же говорить о молодежи начала пятидесятых, еще помнившей школьные уроки Закона Божьего!
***
В сентябре 1951 года Войтылу освободили от обязанностей викария ради подготовки докторской диссертации, и он подвизался в костеле святой Екатерины, а также в кафедральном соборе Девы Марии на площади Главного рынка в Кракове. Туда же переместилось и Сообщество вместе с григорианским хором. «Представьте себе, – говорил архипресвитер собора Фердинанд Махай. – Я у себя в ризнице, а кто-то стучит и, приоткрыв дверь, тихо спрашивает, на месте ли ксендз Войтыла. Отвечаю, что нет. Через минуту стучит кто-то другой с тем же самым вопросом, потом третий и пятый. И все спрашивают Войтылу. Великий Боже! Все время Войтыла да Войтыла. Будто меня уже тут нет. Настоятеля!»208
Кароль мечтал стать пастырем, а его толкали в богословие. Сначала Сапега запретил ему принимать постриг, отправив в Рим, а затем преемник Сапеги Базяк усадил способного священника за докторскую, презрев его желание продолжать работу в приходе святого Флориана209. Диссертация его называлась «Возможность построения христианской этики на основе системы Макса Шелера». Эту тему ему подсказал бывший научный руководитель в семинарии Игнацы Ружицкий, с которым ксендз теперь делил помещение в одном из зданий резиденции архиепископа.
Защита его прошла в начале декабря 1953 года, но доцентом он так и не стал, потому что теологический факультет Ягеллонского университета почти сразу закрыли. Судьба явно не благоволила Войтыле – вспомним, что и магистра он получил не сразу, так как не смог издать свою работу в Италии.
В октябре 1953 года Войтыла начал вести в университете курс этики вместо своего старого знакомого Яна Пивоварчика, которого не оставляли в покое власти после разгона редакции «Тыгодника повшехного». Затем он устроился в две краковские семинарии, а с октября 1954 года еще и взял ставку в Люблинском католическом университете.
Люблин – роковой город для Польши. Тамошние события не раз меняли ход ее истории. В 1569 году в Люблине возникла Речь Посполитая, когда сеймы Литвы и Польши объявили о создании единого государства. За двести лет до этого заседавший в Люблине Сейм пригласил на польский престол великого князя литовского Владислава Ягайло – основателя династии Ягеллонов (христианство язычник Ягайло, к слову, принял как раз в краковском костеле святого Флориана). Воспоминанием об этом короле осталась замечательная часовня Святой Троицы в люблинском замке: готической архитектуры, она украшена фресками в православном стиле – ярчайший символ смешения культур в Республике двух народов (так полностью звалась Речь Посполитая). Там же, в Люблине, заседало правительство новой, просоветской Польши, прежде чем переместиться в освобожденную Варшаву. Ирония судьбы – неформальная столица польских коммунистов явилась оплотом враждебной им идеологии: Люблинский католический университет оставался последним вузом советского блока, где готовили богословов, хотя власти навязали ему ректора из «ксендзов-патриотов» и запретили принимать студентов на светские дисциплины. Наконец, оттуда же, из Люблина, шагнул на трон примаса Стефан Вышиньский, два года занимавший местную кафедру.
Ученики и преподаватели вспоминали, что перерывы между занятиями (будь то в Люблине или в Кракове) Войтыла проводил в часовне либо в храме, тогда как другие лекторы спешили в трапезную. Это не была игра на публику или своеобразный театр для себя, молитвы заполняли все время Войтылы, когда он не был занят чтением или разговором. Даже в ходе разговора он мог отойти в сторону для молитвы210. В ночном поезде, на котором ездил в Люблин, он в обязательном порядке молился до самой полуночи, стоя прямо на полу211. Когда делал заметки или писал философские тексты, то нередко в верхнем углу страницы оставлял начало какой-нибудь молитвы на латыни212. Зачем все это? Очень просто: Войтыла нуждался в общении с Господом, как другие нуждаются в сплетнях или беседах за жизнь. Это была его психотерапия. Бог для него находился не где-то далеко, а рядом, за спиной. Оглянись – и увидишь Его. А лучше заглянуть внутрь себя, ибо каждый из нас носит частичку Господа. Войтыла жил с этим ощущением. Не будь его, кто знает, смог бы уроженец крохотного городка в отрогах Бескид так уверенно выступать перед миллионными толпами на разных континентах.
Ощущение присутствия Божия достаточно прозрачно выражено в «Песни о блеске воды», которую Войтыла опубликовал в «Тыгоднике повшехном» под псевдонимом «Анджей Явень» в 1950 году.
Нет, одним вам не остаться,
Вечно в вас Мой профиль пребывает,
Правдой воплощаясь раз за разом,
Живой волны разрезом глубочайшим 213.
Живая вода – образ из четвертой главы Евангелия от Иоанна, где Христос беседует у колодца с самаритянкой, говоря ей: «<…> всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, не возжаждет вовек, но вода, которую Я дам ему, сделается источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин 4: 13–14).
Войтыла в своем произведении не ограничился поэтическим пересказом этой сцены, а еще и обратился к читателям, заклиная их открыть взор и посмотреть на мир иначе, то есть узреть Бога.
С тех пор, как зачерпнул воды со дна,
Мои зрачки искрятся чудным блеском,
И этот свет познаний обретенных
Во мне не угасает по сей день.
Но зеркало колодца отразило
Ту пустоту, которая во мне.
О откровенье свыше! Будь со мною,
Как павший лист на дне колодца,
Придай побольше радости очам
И отгони от них подале грусть 214.
«Песнь о блеске воды» закрепила за Войтылой статус одного из ведущих авторов «Тыгодника повшехного». Его тексты нередко появлялись на первой странице еженедельника (например, «Миссия во Франции» или рождественское эссе «Тайна и человек»). Но если статьи он публиковал под своим именем, то стихотворения, как и полагается священнику, – всегда под псевдонимами. Кроме «Песни», в начале пятидесятых «Тыгодник» издал еще две его поэмы: «Мать» и «Мысль – странное пространство»215.
***
«Мать» вдохновлена догматом о взятии Богородицы в небесную славу душой и телом, который был провозглашен Пием XII в ноябре 1950 года. Это событие оживило в Войтыле впечатление (никогда не меркнувшее, впрочем) от книги Гриньона де Монфора, которую он читал на фабрике соды. Дева Мария – избранница Божия, через которую Христос сошел на землю, предстательница за род человеческий перед Господом, а еще – обычная мать, любящая свое дитя (пусть даже дитя это – Творец всего сущего). Как она смотрела на своего ребенка? Что думала о нем? Понимала ли свое предназначение? Эти темы будут занимать Войтылу всю жизнь. Богородица – спасение и отрада всех женщин: им закрыта дорога в священники (ибо в Библии нет женщин-священников), но они первые поднимают голос за род человеческий. Так решил Господь, и не нам противиться Его выбору.
В поэме «Мать» Богородица обращается к своему нерожденному еще сыну, ища у него поддержки перед лицом грядущей мистерии, к которой сама окажется причастна волею небес, родив мессию.
Будет долог Твой путь, встречи разные будут и люди,
Ровен пульс мой – его в ритме дней Твоих узнаю.
Нет напевов иных. Песнь себя не избудет
И услышится эхом, что равно всему бытию 216.
Другую поэму Войтыла написал спустя два года, когда работал над докторской и мучился с переводом Шелера на польский. Мечислав Малиньский, бывший товарищ по кружку Тырановского, вспоминал, как однажды Войтыла сокрушенно произнес: «Смотри, что мне дали… Не очень понимаю, о чем тут речь… Я вообще по-немецки слабо, а здесь еще целый ряд профессиональных терминов, которые не знаю, как перевести. И знаешь, что я делаю? Взялся за перевод… Другого выхода нет»217. Трудности перевода, очевидно, заставили его задуматься над способностью языка в принципе передать мысль во всей полноте. Так родились поэтические размышления о соответствии мысли своему вербальному выражению.
Направь на каплю дождевую взгляд.
Она покрыта вешним изумрудом,
Листочков нежность всю в себя вобрав.
И сколько б ни было в глазах восторга,
Но мысль словами вряд ли передать.
Не три глаза спросонок, как дитя, —
Блеск красоты в тебя вошел глубоко.
Слова бессильны. Разве непонятно?
Чтоб выразить осознанное чудо,
Ищи в себе пространство потайное 218.
***
Немецкий феноменолог Макс Шелер (1874–1928) задавался вопросом, что такое человек. О том же самом уже давно размышлял и Войтыла, мучимый известным постулатом об образе и подобии, по которому Бог сотворил человека. Если Бог непостижим, а человек сотворен по Его подобию, следовательно, непостижим и он?219
Во вступлении к своему циклу «О сути человека» Войтыла говорит: «<…> мы должны сразу сказать, что заниматься человеком можно с точки зрения либо его судьбы, либо его содержания. Выбираем второе, поскольку судьба в огромной мере зависит от содержания»220. И дальше он проводит логическую цепочку: человека от животных отличает самосознание, иначе говоря – человеческая душа (ибо душа есть у всего живого), а стало быть, эта человеческая душа – и есть его суть. Что же такое человеческая душа? Тут Войтыла противу ожидания не использует теологию, а прибегает к достижениям науки – неврологии и физиологии, изучающих механизм передачи восприятия. Наука, говорит он, прекрасно объясняет, каким образом человек видит и слышит, но она не в состоянии растолковать, откуда в нас берутся ум и воля. То, что ум принадлежит к качествам потустороннего мира, доказывается способностью человека к абстрактному мышлению – эту способность нельзя свести к свойствам материи, следовательно, она и есть признак наличия души. Аргумент же материалистов, что при повреждениях мозга повреждается и способность воспринимать действительность, можно опровергнуть тем, что в этом случае душа просто перестает получать информацию, а значит, ей становится нечего анализировать. Так же и с волей: ее свобода подразумевает независимость от материи, ибо последняя жестко обусловлена средой, не говоря уже о том, что воля часто устремлена к нематериальному благу (добродетели, познанию, прогрессу и т. д.).
Человек (по Войтыле) – это неразделимое единство духа и тела. Вслед за Шелером и Фомой Аквинским Войтыла утверждает, что человека человеком делает присутствие в нем духа, управляющего инстинктами; то есть сущность человека не сводится к биологии, человек – это одухотворенное тело221. Поэтому наука не в состоянии постичь сущность человека – ни один прибор не может зафиксировать этот дух, а он есть, ибо без него не было бы человека. Именно дух – залог человеческой свободы, поскольку он не подвержен влиянию внешних раздражителей. А значит, лишь верующий истинно свободен222. Вот он, ключ к пониманию фразы Адама Хмелёвского в «Брате нашего Бога»: «Я выбрал высшую свободу».
Феноменология Шелера явно близка установкам Хуана де ла Круса: то же стремление чувственно вырваться за пределы земного бытия, испытав слияние с вечным, и тот же упор на всесокрушающую силу любви (у Шелера это выражено даже сильнее: любовь для него – первейший способ приобщиться трансцендентному). У Шелера, видимо, Войтыла почерпнул и то, что ощущал давно, но не мог четко сформулировать – преодоление господствующего в философии рационализма и возврат к мистическому постижению сущего. Позднее это выльется в критику Декарта, который, по мнению Войтылы, сделал человеческий разум краеугольным камнем постижения мира, выведя Бога за скобки. В этом, как считал Войтыла, коренится изъян всей европейской философии Нового времени223. У Шелера же впервые Войтыла встретил мысль, которую пронесет через всю жизнь: слуги Божьи должны сохранять девственность, дабы подчеркнуть святость брака. Церковь – их супруга224.
Тем не менее на вопрос, годится ли система Шелера для христианской этики, Войтыла ответил: «Нет», хотя и признал, что феноменология полезна при исследовании человеческого опыта. Почему же тогда нет? Да потому что Шелер отрицал значение совести. По Шелеру, личность как клубок эмоций чувственно воспринимает некие ценности без моральной оценки, просто в качестве факта. Каждый из нас способен разделить с другим его чувства, и этим взгляды Шелера подкупили Войтылу, который не мог снести, что философия Нового времени сомневалась в возможности одного человека понять другого. Но мы не стремимся следовать (по Шелеру) некой общепринятой морали – о каждом поступке надо судить отдельно, добр он или зол. А вот этого уже Войтыла принять не мог. Если нет общепринятой морали, чего же стоят евангельские заповеди? 225
***
Жизнь причудливо закольцовывается: однажды попав в один из ее лабиринтов, вы так и будете кружить, открывая все новые его повороты, но едва ли выберетесь в соседний. Близость феноменологии доктрине босых кармелитов ощущал не только Войтыла. Ученица Гуссерля Эдит Штайн, атеистка из еврейской семьи, однажды открыла для себя тексты Терезы Авильской и обратилась в веру, приняв постриг в кармелитском монастыре под именем Терезы Бенедикта Креста. Последнюю свою книгу, написанную перед тем, как нацисты отправили ее в газовую камеру Аушвица, она посвятила озарениям Хуана де ла Круса. Через месяц после ее гибели в семидесяти километрах к востоку рабочий каменоломни Кароль Войтыла поступил в тайную семинарию и взялся изучать наследие Иоанна Креста. Случайно или в том был особый расчет небес? У Господа ничего не бывает зря.
О судьбе Эдит Штайн Войтыла, вероятно, услышал от философа Романа Ингардена, тоже ученика Гуссерля, которого он попросил написать рецензию на свою докторскую. Ингарден когда-то состоял в переписке со Штайн, но не одобрял ее мировоззренческого выбора: по мнению ученого не следовало смешивать философию с теологией. По той же причине (а может, в силу запрета преподавать, полученного от властей) он отказался написать рецензию, и Войтыла должен был обратиться к другому профессору – Стефану Свежавскому, известному историку философии, специалисту по томизму, в скором будущем – единственному светскому эксперту из Польши на Втором Ватиканском соборе. (По совпадению и Свежавский, и Ингарден происходили из Львова. Потерянные кресы ежечасно напоминали о себе!226) Эдит Штайн – еврейка, обращенная в католицизм, – послужила для Войтылы ярчайшим примером того, как свет истины озаряет душу. В 1999 году он канонизирует ее и провозгласит небесной покровительницей Европы.
Русские и церковь
В польском языке немало слов, звучащих почти по-русски, но с другим значением. Фонетический диссонанс как ничто другое показывает обманчивую близость двух народов, и он же служит иллюстрацией фатального недопонимания. Русские пеняют полякам за «предательство» славянского дела (ибо все славяне, по убеждению наших соотечественников, должны быть православными или хотя бы льнуть к России), а поляки русским – за навязывание им, европейцам, азиатских порядков (ведь деспотизм власти – верный признак Азии, как убеждены в Польше). Клише о «польском гоноре» и «русском бескультурье» продолжают цвести пышным цветом, невзирая на открытость границ. Стереотипы эти вряд ли преодолимы: в их основе лежат штампы времен барокко и эпохи Просвещения, когда считалось, что чем страна восточнее, тем она более отсталая. Сами поляки сталкиваются с таким же предубеждением в Западной Европе. Французский журналист Андре Фроссар, написавший в 1982 году книгу на основе серии бесед с Иоанном Павлом II, сокрушался, что его соотечественники (особенно из интеллигенции) взирают на поляков свысока, перенося такое отношение и на римского папу227.
Освобождение Красной армией Польши от фашистской оккупации мало что изменило в этом плане. Поляки чувствовали, что вместо свободы получили роль вассалов России (именно России, потому что СССР воспринимался как новое воплощение царской империи). Россия прежде уже лишала их независимости, подавляла восстания, ссылала в Сибирь и расстреливала патриотов; затем руками коммунистов вела подрывную работу против суверенной Польши, вторично уничтожила ее, договорившись с Гитлером, депортировала массы населения вглубь своей территории, бессудно казнила тысячи польских офицеров и, наконец, навязала возрожденному государству новый строй, попутно отняв восточную часть с Вильно, Брестом и Львовом. Так воспринимался Советский Союз многими поляками, невзирая на навязчивую пропаганду польско-советской дружбы228. Слишком свежи были эти раны, чтобы их можно было быстро забыть. Не случайно в Польше так и не закрепилось советское обращение «товарищ», проиграв конкуренцию с традиционными «пан» и «пани». Даже фантаст Станислав Лем, всю жизнь сторонившийся политики, написал издевательский рассказ «О полезности дракона», в котором иронизировал над теми, кто пытался углядеть выгоды от принадлежности Польши к социалистическому лагерю: дескать, это то же самое, что жителям планеты, терроризируемой драконом, тешить себя мыслью, будто без дракона было бы еще хуже. Понять Лема можно – он ведь родился во Львове…
Многие поляки не сомневались, что социализм в их стране держится на советских штыках. Ужас советской интервенции грозовой тучей висел над Польшей. Даже ПАКС, который в глазах московских дипломатов служил образцом лояльной Советскому Союзу структуры, был насквозь проникнут этим страхом. Один из диссидентов, который на протяжении ряда лет состоял в ПАКСе, так описывал в конце 1970‐х господствовавшие там настроения: «<…> если не пропагандировать дружбу с СССР, то по их мнению к нам приедут советские танки. Мне же всегда казалось, что можно вести разумный диалог с любым государством, даже с Россией. Но когда я пытался найти рациональные предпосылки для таких отношений, меня тут же начинали запугивать танками»229.
Гостей из Советского Союза, проникнутых идеей социалистической солидарности, такой антисоветизм шокировал. Один из них, член Союза писателей СССР, откровенно писал в 1963 году: «<…> когда остаешься наедине со своим [польским] собеседником и у него развязывается язык, то речи идут уже совсем другие. Мне, советскому писателю, вменяется все то плохое, что сделало польскому народу российское самодержавие. Счет начинается от польского королевича Владислава, изгнанного из Кремля русскими ополченцами в начале XVII века. Я должен ответить за бунтаря Хмельницкого, за все три раздела Польши, за штурм Варшавы Суворовым, за 1831 и 1863 годы, за все последствия культа личности Сталина. Мой собеседник, польский писатель, переходит уже всякие границы элементарного приличия, когда позволяет себе намеки на „Катынский лес“, на якобы сознательное неподдержание нашими войсками варшавского восстания, на „насилия“, совершаемые будто бы нашими солдатами в польской деревне»230.
Ему вторил советский вице-консул в Гданьске: «На протяжении всего периода существования Народной Польши, в разное время по-разному, у значительной части населения Побережья ПНР проявлялись и проявляются отрицательные настроения по отношению к СССР. Эти настроения затихают в обычной, нормальной обстановке и выходят наружу в период обострений, кризисов и т. п. В школах, среди студентов, интеллигенции, крестьянства, в рабочей среде довольно часто и, как правило, в неофициальной обстановке можно услышать резкую, и иногда и злобную критику социализма, высказывания о том, что Польша оказалась привязанной к Советскому Союзу, который якобы насильственно насаждает порядки в „попавших после войны под влияние“ странах Восточной Европы. Отсюда имеют место заявления по поводу отсутствия демократии в Польше, свободы слова, печати, критики и т. д… Были случаи, когда польские дети заявляли советским специалистам: „Уходите из нашей страны“»231. Консул СССР в Кракове тоже заострял на этом внимание начальства: «В доверительной беседе без свидетелей советские граждане [проживающие в Польше] рассказывали о недоброжелательном отношении к ним со стороны значительной части местного населения. Это выражается нередко открыто в публичных высказываниях»232.
Подобные настроения, впрочем, легко сочетались с пристальным вниманием к русской культуре – как элитарной, так и массовой. На польских экранах шли советские фильмы, поляки прекрасно знали имя Аллы Пугачевой. Польша – пожалуй, мировой лидер по числу переводов Высоцкого и Окуджавы, чьи песни по сей день звучат со сцены233. Нельзя забывать также, что в школах ПНР русский язык был обязательным предметом. Это, конечно, не добавляло любви к России, но позволяло легче воспринимать книги и песни из‐за Буга.
Сталин, осознавший силу национального духа поляков еще в 1920 году (когда был комиссаром в большевистской армии, штурмовавшей Львов), пошел на некоторые уступки общественному мнению страны, чтобы закрепить присутствие Польши в советском блоке. Он позволил сохранить старые польские герб и гимн, настоял на названии государства «Польская Народная Республика» (а не социалистическая), дал согласие на то, чтобы первая польская дивизия на территории СССР получила имя Тадеуша Костюшко – национального героя, воевавшего против России. Кроме того, в проекте Конституции, подготовленном Берутом и его соратниками, Сталин собственноручно вычеркнул положения о руководящей роли партии и союзе с СССР234.
Но кого могли обмануть эти уловки? Даже Владислав Гомулка, твердолобый марксист и обличитель «буржуазной» Польши, написал в своих воспоминаниях: «<…> коммунизм в Польше – вследствие ее освобождения из-под гитлеровской оккупации Красной армией – был навязан силой, и по сей день опирается на насилие. А „великорусский шовинизм, прикрытый именем коммунизма“, к сожалению, тоже является скорее отражением действительности, чем антисоветской пропагандой… Ленинские представления о социализме отвергали любой национализм и шовинизм, отвергали то, чтобы какая-либо социалистическая страна занимала превалирующее место, исполняла роль гегемона и навязывала свою волю другим социалистическим странам… Как же далеко отошла нынешняя КПСС от ленинских принципов… Прежний великорусский шовинизм, господствовавший в царской монархии, вскоре после смерти Ленина начал совершенствоваться, менять окраску, все более приспосабливаться, подобно хамелеону, к новой советской действительности, пока не воплотился в разных формах в генеральную линию КПСС, встав у основ политики Советского Союза…»235
***
Первую попытку выйти из сферы влияния СССР поляки предприняли в 1956 году. Подняли патриотическую волну, как ни странно, коммунисты, которые после разоблачения культа личности Сталина вспомнили, что они – не только марксисты, но еще и поляки. Немедленно в прессе зазвучали голоса, что пора бы отделить интересы Советского Союза от интересов мирового рабочего движения, а еще начать строить «истинный» социализм, не опороченный сталинскими «искажениями».
Народ заволновался. В осуждении Сталина многие увидели осуждение вообще всей советской линии в Польше. Студенты обратились к ленинским трудам периода Гражданской войны, силясь постичь, в чем заключался этот «истинный» социализм; рабочие отказывались трудиться во имя светлого будущего, требуя повышения зарплат здесь и сейчас, крестьяне воспряли духом, надеясь, что власти свернут коллективизацию. Как всегда во время кризисов, выплеснулись наружу антирусские и антисемитские чувства.
Очень скоро в партии заговорили об отстраненном восемью годами ранее Гомулке, который пострадал за стремление идти «польской дорогой к социализму». Что такое «польская дорога», мало кто понимал, но всех подкупало слово «польская».
«Долой русских!» – один из лозунгов, под которым в конце июня 1956 года вышли на манифестацию протеста рабочие Познани. Эта манифестация быстро переросла в бунт, подавленный через два дня войсками. Власти поспешили обвинить во всем агентов англо-американской разведки и недобитых реакционеров, но сами понимали, что истинная причина в другом. Как заметила одна из высокопоставленных сотрудниц польской госбезопасности, заводилами в этом бунте выступали отнюдь не представители «реакционных классов», а молодые рабочие – те самые, на которых партия и делала ставку236.
***
«Русских» в Польше и впрямь было немало: в армии служило множество советских офицеров во главе с министром обороны Рокоссовским, госбезопасность контролировалась советниками из Москвы; посольство СССР фактически являлось одним из центров власти – туда регулярно наносили визиты члены правящей верхушки (в свое время выпестованные Сталиным), спеша донести до советского руководства свое мнение о положении в стране. По символической цене «старшему брату» сбывался польский уголь. Многие вообще были убеждены, будто перебои с продуктами вызваны неравноправными договорами с Советским Союзом.
Польские коммунисты попали в отчаянное положение. С одной стороны на них давил народ, желавший свободы и независимости, с другой же – товарищи из Москвы, требовавшие прекратить этот «праздник непослушания», иначе будет худо (как именно худо, показала ноябрьская интервенция в Венгрии). Вдобавок всколыхнулись религиозные чувства поляков. Двадцать шестого августа на традиционное паломничество к иконе Черной Мадонны в Ченстохову прибыло неслыханное количество людей (некоторые пишут даже о миллионе, но это явное преувеличение). Вышиньского не было – он по-прежнему находился в изоляции (где читал, между прочим, «Войну и мир»), но о его присутствии напоминал пустой стул с красно-белыми лентами. Лодзинский епископ Михал Клепач, исполнявший обязанности примаса, огласил паломникам длинный текст обета Деве Марии, переданного Вышиньским из заключения: «Присягаем исполнить все, что в наших силах, дабы Польша была истинным царством Твоим и Твоего Сына, отданным совершенно под Твою власть, во всей жизни нашей – личной, семейной, национальной и общественной… В преддверии тысячелетия крещения нашего народа мы хотим помнить, что Ты первая исполнила для народов гимн освобождения от греха, что Ты первая встала на защиту сирых и убогих и предъявила миру Солнце Справедливости, Христа Бога нашего»237.
Обет состоял из семи частей. По мысли примаса, торжественная церемония должна была явиться началом десятилетнего цикла мероприятий, посвященных юбилею крещения Польши. Едва ли глава епископата рассчитывал, что этот текст увидит кто-либо, кроме него и сотрудников госбезопасности, осуществлявших надзор. Написать присягу Богородице его уговорила Мария Оконьская – одна из немногих сотрудниц примаса, допущенная к нему весной 1956 года.
Запертый в пограничном монастыре, он не получал прессу и более двух лет (до ноября 1955 года) был совершенно отрезан от мира. Но пути Господни неисповедимы, и вот самый кроткий из польских прелатов, Михал Клепач, еще вчера угодливо игравший в карты с премьером Циранкевичем, теперь зачитывал перед многотысячной толпой документ, составленный непокорным архиепископом. Может ли быть лучшее доказательство Божественного промысла?
Кардинал получил свободу 26 октября 1956 года – через пять дней после исторического VIII пленума ЦК, вернувшего Гомулку на пост лидера партии. Заседания проходили в накаленной обстановке: повсюду митинговали рабочие и студенты, из Москвы нагрянули советские руководители во главе с Никитой Хрущевым, который сразу же, в аэропорту, начал махать кулаками: «Мы проливали свою кровь за освобождение этой страны, а вы хотите отдать ее американцам»238.
Пикировка с гостями продолжилась в Бельведерском дворце. Гомулка, уже на правах первого секретаря (хотя формально еще не избранный), бросил в лицо Молотову, сидевшему подле Хрущева: «Польский народ хорошо помнит ваши слова об уродливом дитя Версальского договора»239. Все висело на волоске. Если бы лидеры не договорились, дело дошло бы до войны – советские танки, расквартированные в Лигнице, уже двигались к Варшаве. В подлинно трагическом положении оказался Рокоссовский, вынужденный выбирать между присягой Советскому Союзу и верностью своей исторической родине. Судя по его позиции на пленуме, Рокоссовскому оказалось милее звание маршала СССР, но это уже не играло роли: его подчиненные, возглавлявшие рода войск, сами сформировали Гражданский штаб и приготовились к отпору.
Все же сторонам удалось преодолеть разногласия: Хрущев согласился на возвращение Гомулки к власти, а последний дал гарантии, что Польша останется членом Организации Варшавского договора (ОВД). Двадцать четвертого октября Гомулка выступил на массовом митинге в центре Варшавы, где объявил: искажения остались в прошлом, отныне партия и страна вступают в новый этап строительства социализма240. Ему в ответ кричали «Ура!» и «Товарища Вышиньского в Политбюро!»241.
Все перемешалось в замороченной польской голове: социализм и религия, партия и епископат. Но одно осталось неизменным – патриотизм. Гомулка и Вышиньский – две эти личности на какой-то момент стали символами борьбы за полноценную независимость страны. Даже Якуб Берман, второй человек в берутовской команде, говорил много позже в интервью: «Почему Гомулка в 1956 году приобрел такую популярность, какой ни у кого не было в послевоенной Польше и которая по сути привела его к власти? Откуда она бралась? Именно из того, что нас страшило и тормозило. Он разбудил, хотя и не желая того, огромные надежды, что вернется старая Польша. Вернется старая Польша, которая противопоставит себя Советскому Союзу. Если не открыто, то хотя бы наполовину, на четверть, а это вызовет некоторые трещины между Польшей и Советским Союзом»242.
***
Первым желанием Вышиньского после освобождения было поехать в Ченстохову и поклониться Черной Мадонне. Будучи в изоляции, он находил утешение в молитвах Богоматери и в конце концов принес ей личную присягу, следуя указаниям книги Гриньона де Монфора. «Грядущая победа будет победой Пресвятой Девы Марии», – повторял он слова Хлёнда, не сомневаясь, что внезапной переменой в судьбе обязан Богородице243. Но эмиссары власти и оживившиеся католические деятели настойчиво звали его в Варшаву: там решалась судьба страны, на счету была каждая минута.
«Мы должны помочь Гомулке», – скрепя сердце признал Вышиньский в разговоре с писателем Ежи Завейским, который осенью 1956 года выбил у нового руководства страны согласие на организацию пяти клубов католической интеллигенции. Признание далось Вышиньскому нелегко, ведь приходилось принять сторону одних врагов Христа против других – изгнать дьявола силой Вельзевула. То, что перед ним такие же силы тьмы, стало ясно сразу же, как только правящие марксисты не позволили возродить христианско-демократическую партию, за которую ратовал Ежи Браун и его соратники по Унии.







