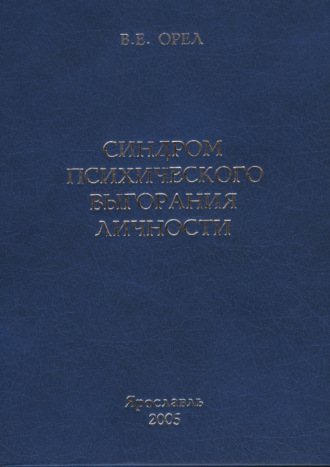
В. Е. Орёл
Синдром психического выгорания личности
Наконец, наиболее широкое понимание структуры профессионального опыта встречается в работах Ф.С. Исмагиловой. Автор, опираясь на предыдущие исследования, сделал попытку рассмотрения данной категории с позиций системного подхода. Профессиональный опыт с этих позиций определяется как психологическая детерминационная самоорганизующаяся система, которая обладает рядом свойств таких, как простота – сложность, открытость – закрытость, и т. и. Он включает в себя знания умения и навыки, апробированные на практике; мотивы и цели, побуждающие его к профессиональному росту; профессиональные привычки и стереотипы; приобретшие личностный смысл события профессиональной жизни; переживания, сопровождающие профессиональную жизнь человека. Перечисленные составляющие могут образовывать различные сочетания и взаимодействующие комплексы, которые определяются автором как свойства профессионального опыта. Многообразие этих свойств интегрируется в структуру профессионального опыта, куда входят четыре основные области: интеллектуальная, операциональная, коммуникативная и эмоциональная. При этом выделяются два уровня структуры опыта – внешний и внутренний (глубинный). Внешний уровень составляют знания, умения и навыки, а внутреннюю – смыслы, установки, ценности, переживания [43].
Предложенная автором концепция профессионального опыта реализует достаточно широкий подход к его пониманию, который охватывает все подструктуры личности: мотивационную, эмоциональную, когнитивную и операциональную. Не отрицая указанного выше подхода к проблеме профессионального опыта, мы акцентируем наше внимание на его когнитивных и операциональных аспектах как наиболее традиционно представленных в психологических исследованиях. В когнитивную (познавательную) сферу включаются специфические когнитивные образования, формирующиеся в профессиональной деятельности и используемые для решения ее задач:
– знания;
– информационные модели и образы разной степени обобщения – от конкретных представлений о тех или иных аспектах профессиональной деятельности до обобщенных сложных образований, отражающих общее восприятие и отношение профессионала к окружающему миру («образ мира»);
– когнитивные процессы и структуры, способствующие не только решению профессиональных задач, но и созданию отмеченных выше представлений (психические процессы, интеллект и способности).
Обратимся к рассмотрению указанных компонентов когнитивной сферы в контексте исследуемой нами проблематики. Взаимосвязь между когнитивными структурами и выгоранием наиболее отчетливо прослеживается на примере второй группы. В данную группу входят образы и информационные модели разной степени обобщенности. По данному параметру можно выделить: 1) представления об отдельных элементах профессиональной деятельности (профессиональных ситуациях); 2) представления об объекте труда, которым в профессиях «субъект-субъектного» типа является человек, и социальном окружении; 3) целостное представление профессионала о мире («образ мира», «картина мира»).
Исследование профессиональных ситуаций в отечественной психологии проводилось в рамках изучения проблемы практического мышления. В работах Д.Н. Завалишиной, Е.В. Коневой и других исследователей были показаны особенности выделения проблемных ситуаций в трудовой деятельности, давалась их оценка и предлагались способы разрешения, а также описывалась специфика восприятия проблемных ситуаций работниками разных профессиональных групп [33, 37, 58, 112]. Однако в рамках изучения выгорания данный аспект не нашел должного отражения. Существует небольшое количество работ в зарубежной психологии, посвященных изучению взаимосвязи выгорания и восприятия особенностей профессиональных ситуаций [148, 220, 229, 230]. В этих исследованиях показано, что восприятие профессиональных ситуаций как опасных для жизни или напряженных прямо коррелирует с такими показателями выгорания, как эмоциональное истощение и деперсонализация. При этом отмечается, что установки на ситуацию как опасную способствуют образованию соответствующих когнитивных структур, фиксация которых постепенно приводит к появлению негативных эмоциональных состояний [229].
Вторая из указанных выше когнитивных структур достаточно широко представлена в работах по социальной перцепции отечественных и зарубежных психологов [15, 19 и др.]. В работах по восприятию и познанию человека человеком выявлены основные особенности этого процесса, факторы, его определяющие, и механизмы формирования. Профессиональная направленность человека, наряду с его полом, возрастом, уровнем интеллекта, оказывает существенное влияние на восприятие социальных объектов. Данный фактор позволяет нам рассмотреть взаимосвязи выгорания и особенностей социальной когниции [15, 19].
Большинство исследований этого направления связывают возникновение выгорания с особенностями восприятия поведения других членов профессиональной группы [157, 365, 366]. В частности, было показано, что восприятие поведения тренеров спортивных команд служило предикатором выгорания у спортсменов [365]. Анализируя механизмы возникновения выгорания, исследователи делают акцент на двух феноменах – аффилиации и заражении.
Под аффилиацией понимается процесс социального сравнения профессионала со своими коллегами, стремление получать информацию и общаться с определенными лицами. Несмотря на определение аффилиации, как механизма поведения человека в стрессовых условиях и источника возникновения выгорания, существуют разногласия по поводу социального статуса коллег как объектов аффилиации [335, 353, 375]. В частности, B.E. Tavlor и М. Lobei считают, что в условиях стресса человек стремится к общению с более удачливыми, опытными коллегами в целях саморазвития [353]. В исследованиях Т.A.Wills отмечается противоположная точка зрения, утверждающая, что человек в стрессовых обстоятельствах стремится к общению с менее удачливыми коллегами с целью самоподдержки, самоуспокоения, повышения своего достоинства в собственных глазах [375]. Наконец, третья группа исследователей предполагает, что в условиях стресса человек предпочитает находиться с равными себе людьми по опыту, компетентности с целью оценки своих возможностей [335]. Для более точной верификации указанных данных В.Р. Buunk и W.B. Schaufeli) провели исследование, которое показало, что тенденция сравнивать себя с лучшими работниками является основной в большинстве случаев [157]. Особенно характерной эта тенденция была при сравнении своего опыта и опыта лучших работников. Так, три четверти опрашиваемых предпочитали иметь информацию о более опытных работниках, одна четверть – о равных себе, и никто не нуждался в информации о менее опытных работниках. Было обнаружено, что специфика социального сравнения зависит от мотивации достижений работников. Предпочтению информации о лучших работниках отдали те люди, которые были удовлетворены своими достижениями (самореализацией в работе). И, наоборот, профессионалы с низкой удовлетворенностью своими достижениями не стремились к получению информации о своих более удачливых коллегах [157].
Работы по социальному сравнению раскрывали механизмы поведения человека в условиях стресса, но их было явно недостаточно для объяснения возникновения выгорания. Исследование феномена эмоционального заражения позволило восполнить данный пробел. Практически все исследователи этого феномена отмечали его ведущую роль в возникновении выгорания [138, 156, 157, 183, 210, 366, 374]. Под эмоциональным заражением понимается тенденция «автоматически подражать другим людям, демонстрируя одинаковые с ними мимические, вербальные и поведенческие выражения и как следствие, приближаясь к ним эмоционально» [228, с. 5]. Наиболее отчетливо и образно по поводу роли эмоционального заражения в возникновении выгорания высказались J. Edelwich и A. Brodsky, сравнивая выгорание со стафилококковой инфекцией: «Выгорание в организациях социальной сферы подобно стафилококковой инфекции в больницах: оно заражает все вокруг. Оно распространяется от клиентов к персоналу, от одного работника к другому и возвращается обратно к клиентам…» [183, с. 25]. В ряде исследований было показано, что одним из механизмов «заражения выгорания» является феномен «групповой поляризации», который описывает тенденцию члена группы изменять свое отношение к проблеме на негативное, если большинство членов данной группы относится к ней негативно, что способствует развитию выгорания [156, 157, 212].
Другой механизм заключается в том, что коллеги являются своеобразной моделью для имитации симптомов выгорания. В условиях стресса люди начинают воспринимать симптомы выгорания коллег как своеобразную норму поведения и начинают ей соответствовать. Эмоциональное заражение может происходить и при отсутствии вербальной коммуникации, при этом немаловажную роль играют предшествующие выгоранию негативные эмоциональные состояния [296, 336]. В этом случае этом эффект заражения может иметь более широкие последствия, заключающиеся в распространения симптомов выгорания не только на профессионалов, но и на их ближайшее окружение. В частности, в некоторых исследованиях было показано, что выгорание, которому были подвержены офицеры вооруженных сил, распространился на их жен и обратно [374].
Наконец, третий уровень организации социальной перцепции, аккумулирующий в себе два предыдущих, связан с формированием «образа мира» или «картины мира». Данная психологическая категория достаточно широко исследовалась в отечественной психологии [11, 12, 66, 67, 85, 111]. Под «образом мира» понимается некоторая совокупность или упорядоченная система знаний человека о мире, о себе, других людях и т. д. [66, 111]. Он имеет уровневую структуру, что зафиксировано в большинстве исследований [12, 85, 111]. В ряде работ выделяют два основных слоя – поверхностный и ядерный. К первому уровню относятся чувственно оформленные представления о мире, а второй, более глубинный слой составляют амодальные знаковые системы [85, 111].
Более дифференцированное представление о структуре «образа мира» приводится в работе Е.Ю. Артемьевой. Она выделяет три слоя в «образе мира»: перцептивный, семантический и слой амодальных структур. Первый, самый поверхностный слой автор обозначила как «перцептивный мир». Он включает в себя совокупность перцептивных образов и представлений, движущихся в четырехмерной системе координат «пространство – время» [12]. Вместе с тем отмечается, что данный уровень является более сложным образованием, чем простой перцептивный образ, поскольку он регулируется системой смыслов и значений и неотделим от более глубоких слоев.
Вторым слоем «образа мира» выступает семантический слой, сущность которого заключается в фиксации субъективного отношения к объектам. В отличие от поверхностного слоя он представляет некую целостную свертку представления о мире. В то же время данный уровень не является полностью амодальным, поскольку объекты, его составляющие, оцениваются именно с модальных позиций. Данный слой получил название «картины мира». От предыдущей подструктуры его отличает то, что он представляет собой «не образы объектов, а образы отношения к ним» [11, с. 21].
Наконец, самый глубокий слой, соотносимый с ядерными структурами, по мнению автора, представляет собой некую внемодальную и статичную структуру, которая определяется смысловыми компонентами и перестраивается только в результате достижения (недостижения) цели. Данный уровень был назван «образом мира» в узком смысле.
«Образ мира» и его составляющие формируются под влиянием большого количества факторов, среди которых важное место занимает профессиональная среда. Именно профессиональная деятельность является важнейшим условием адекватного знания о мире [111]. Профессионалы, принимающие свою профессию в качестве образа жизни, приобретают особое видение окружающего мира, особую его категоризацию, особое отношение к объектам среды. Такое понимание образа мира профессионала получило название «мир профессии» [11]. Структура данного образа профессии включает в себя ряд компонентов [79, 124]:
– профессиональная семантика;
– особенности профессионального отражения ситуации;
– особенности профессионального межличностного восприятия;
– профессиональные аспекты общения.
Источником формирования субъективной модели мира профессионала является его взаимодействие с объектом труда. В этой связи профессионалы различного типа имеют разную проекцию в особенностях принятия объектов окружающей среды, причем специфика этой проекции распространяется и на те объекты, которые не являются профессионально значимыми [11, 54, 79, 124].
Психическое выгорание как профессиональный феномен должно оказывать влияние на субъективную картину мира. Вместе с тем теоретический анализ данного аспекта проблемы показывает полное отсутствие в отечественной и зарубежной психологии исследований, посвященных взаимосвязи между выгоранием и «образом мира».
Рассматривая теоретические и эмпирические исследования взаимосвязи выгорания и когнитивной сферы, нельзя не остановиться на достаточно важном аспекте данной проблемы, без которого проводимый нами анализ был бы неполным. Речь идет о тех когнитивных процессах и структурах, которые лежат в основе построения представлений разного уровня обобщения. Среди указанных психических феноменов можно выделить как традиционно выделяемые психические процессы и функции (восприятие, мышление, внимание, память, воображение), так и формирующиеся на их основе способности разной степени интегрированности (интеллект, рефлексивность, одаренность) и интегративные психические процессы (принятие решения, целеобразование и т. п.) [44, 45, 46, 49, 51].
Исследования взаимосвязи между выгоранием и когнитивными процессами и способностями практически отсутствуют. Исключением может быть работа J.M. Persing [316], посвященная выявлению связи выгорания и духовной зрелости, представляющей некий аналог духовности и духовных способностей, разрабатываемых в настоящее время в отечественной психологии В.Д. Шадриковым [132]. Духовная зрелость понимается как наличие устойчивых духовных убеждений, способных противостоять другим верованиям и религиозным взглядам. В этой работе отмечается наличие обратной корреляционной связи между выгоранием и уровнем духовной зрелости [316].
Подводя итог анализу проблемы взаимодействия психического выгорания и когнитивной сферы личности, можно отметить практическую неразработанность данной проблемы. Проводимые в этом направлении исследования касались, прежде всего, рассмотрения феноменов социальной перцепции, как источников формирования симптомов выгорания.
Однако обращение к проблемам когнитивной социальной психологии в связи с исследованиями выгорания не только способствовало дальнейшему прогрессу в определении причин возникновения выгорания, но и, по нашему мнению, ограничило сферу исследований в этом направлении. Во-первых, рассмотрение вопросов связи выгорания и восприятия профессионалами друг другом не исчерпывало богатства когнитивной сферы личности. Вне поля зрения исследователей оказались вопросы, связанные с изучением компонентов профессионального опыта, интегративных представлений субъекта, таких, как «образ мира», а также тех когнитивных процессов и структур, которые лежат в основе построения когнитивных образов. Во-вторых, когнитивные компоненты рассматривались только как механизмы, способствующие возникновению выгорания. Поэтому за пределами области исследования оставались вопросы, связанные с влиянием самого выгорания на когнитивные подструктуры личности, в том числе и на представления профессионалов о социальном окружении.
В-третьих, существующие немногочисленные исследования взаимосвязи выгорания и когнитивной сферы страдали разрозненностью и аналитичностью, что не способствовало созданию целостного представления о роли выгорания в функционировании когнитивной подструктуры личности и ее трансформации.
Решение всех указанных проблем будет возможно при замене традиционно применяемого аналитического подхода другим, способным не только охватить все аспекты когнитивной сферы в ее взаимосвязи с выгоранием, но и выявить некие общие закономерности данного взаимодействия.
Операциональная составляющая профессионального опыта включает в свой состав умения и навыки работника и особенности его профессионального поведения. Наиболее отчетливо, с нашей точки зрения, она проявляется в стилевых особенностях профессионального поведения.
Понятие «стиль» столь многогранно, что многие исследователи по праву считают этот термин междисциплинарным, входящим в категориальный аппарат философии, психологии, литературы, искусства, биологии. Практически отсутствуют работы по систематизации накопленных теоретических и экспериментальных результатов, по методологическому обобщению исследований стиля. Вместе с тем в психологической литературе разработки в этой сфере представлены достаточно широко. Под стилем понимается характеристика включенности человека в среду. Стиль всегда индивидуально специфичен и отражает структурированность компонентов среды [68]. В отечественной литературе выделяют четыре группы стилей.
В первую группу входят стили адаптации (организации и структурирования психической деятельности в определенной сфере ее проявления – когнитивной, эмоциональной, моторной. Это локальные стили сопряжения индивидуальности со специфическими внешними условиями. К ним можно отнести когнитивные, эмоциональные стили, стили действий. Эта группа стилей отражает то, как человек ориентируется в среде, выражает свою индивидуальность, как организуется его моторная, эмоциональная и когнитивная сфера (Г. Олпорт, Р. Гарднер, Г. Уиткин, М.М. Кашапов и др.).
Вторая группа включает стили деятельности, которые строятся с учетом объективных структур компонентов среды и представляют собой системы сопряжения индивидуальности с трудовыми, профессиональными, технологическими системами. К ним относятся индивидуальные стили деятельности. Эта группа стилей характеризует, как человек включается в профессионально-трудовые и технологические системы (В.С. Мерлин, Е.А. Климов, Е.П. Ильин, В.Д. Шадриков, Е.И. Рогов, В.А. Толочек и др.).
Третья группа представляет собой взаимодействие индивидуальности с социальными структурами, процессами, отдельными субъектами. Это все стили, характеризующие особенности соучастия, взаимоотношений человека с другими в каких-либо социальных и социо-технических системах (стили руководства, управления, лидерства, общения и т. п.) (К. Левин, Ф. Фидлер, А.Л. Журавлев, Р. Кричевский, Т.Ю. Базаров и др.)
Наконец, последняя группа стилей представляет собой отношения системы сопряжения индивидуальности с социумом, совокупностью условий жизни. Эти стили отражают особенности восприятия человеком мира, использования его продуктов, отражают личностные смыслы, ценности и др. Данная категория наименее изучена и связана с изучением жизненного пути человека (Ш. Бюллер, Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова, С.Л. Рубинштейн). Она подразумевает стили жизни, поведения и т. п. (А. Адлер, К. Роджерс и В. Франкл, Э. Торн, и др.). Предложенная классификационная схема отражает две внешние детерминанты стиля (помимо индивидуальности человека) – характер и степень организованности и структурированность среды (деятельности и взаимодействия людей). Усиление любой детерминанты (например, повышение организованности условий деятельности, взаимодействия людей, равно как и становление интегральной индивидуальности) будет приводить к «смещению» стиля, его изменению и развитию [68, 132]. Рассмотрим предложенные направления в психологии более подробно.
Локальные стили как отражение индивидуальной организации психики в определенной сфере ее проявления наиболее широко изучались в рамках проблемы когнитивного стиля. Изучение когнитивных стилей было начато в зарубежной психологии в 50-е годах XX века. Наиболее известными являются работы Н.А. Witkin по выявлению стилей перцептивной деятельности. Им были выделены два стиля восприятия объекта в зависимости от степени соотношения перцептивных и проприоцептивных компонентов: «полезависимый» и «поленезависимый». Преобладание перцептивных компонентов, выражающееся в тенденции полагаться только на видимое поле восприятия составляло сущность полезависимого стиля. Тенденция контролировать перцептивные компоненты со стороны проприоцептивных процессов, которая позволяла человеку расчленять воспринимаемый объект, выделять элементы из целого и структурированно его воспринимать, представяяла собой «поленезависимый» стиль [377]. В ряде работ подчеркивались другие особенности когнитивных стилей: ригидность – гибкость познавательного контроля, узость – широта сканирования перцептивного поля, и т. п. [57, 201]. В отечественной психологии теоретической и эмпирической базой для изучения когнитивных стилей стали работы И.П. Павлова о типологии ВНД и типах людей, отличающихся особенностями познания окружающей среды, – художественном и мыслительном [83]. Развитие деятельностного подхода обусловило исследование когнитивных стилей в рамках того или иного вида трудовой деятельности [52, 63].
Вторая группа исследований стилевых особенностей представлена изучением индивидуального стиля трудовой деятельности, начало которому было положено в пермской психологической школе [53, 77, 78]. Данное понятие впервые было предложено в работах Е.А.Климова, понимавшего под индивидуальным стилем деятельности (ИСД) «индивидуально-своеобразную систему психологических средств, к которым сознательно или стихийно прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей (типологически обусловленной) индивидуальности с предметными, внешними условиями деятельности» [53, с. 49]. Основной упор в этих исследованиях был сделан на выявлении взаимосвязи между стилевыми особенностями деятельности и типологическими свойствами нервной системы. Типологический подход исследования ИСД, первоначально развиваемый в рамках исследования профессиональной деятельности [59, 78, 110], был затем успешно распространен на учебную деятельность [64, 128] и спорт [39, 40, 41].
Дальнейшее развитие проблемы индивидуального стиля деятельности в этом направлении было связано с расширением круга переменных, участвующих в его формировании, куда наряду с традиционными свойствами нервной системы включаются способности, мотивация, особенности психических процессов, эмоциональные предпочтения [28, 41, 123, 129].
Указанные выше направления в изучении ИСД логично привели исследователей в необходимости построения концепции интегральной индивидуальности, где индивидуальный стиль деятельности выполняет системообразующую функцию [24, 41].
Понимание ИСД как системы способов, детерминированных индивидуально-психологическими особенностями личности, предполагает нахождение определенной связи между ИСД и различными состояниями субъекта профессиональной деятельности, и в частности психическим выгоранием.
Третье направление в исследовании стилевых особенностей субъекта связано с его взаимодействием с социальными системами и объектами. В этом плане речь идет о проблеме стилей руководства, управления, лидерства, общения. Это направление в определенной степени выросло из проблемы индивидуального стиля деятельности, что особенно отчетливо проявилось в изучении стилевых особенностей общения.
Расширение проблемной зоны изучения ИСД касалось не только количества факторов, обусловливающих его возникновение, но и сферы психической активности. В частности, наметилась новая перспектива изучения индивидуального стиля в рамках коммуникативного взаимодействия. Понятие индивидуального стиля общения, введенное В.С. Мерлиным, послужило основой для проведения исследований в области педагогического общения [42, 60, 105].
В работе А.Г. Исмагиловой выделяются четыре индивидуальных стиля педагогического общения воспитателей детского сада, которые отличаются характером постановки целей, выбором действий и имеют различную социальную значимость, выделенные автором стили детерминируются как свойствами нервной системы, так и личностными особенностями [42].
Перспективой исследования в этом направлении является подход к изучению индивидуальных стилей общения как самостоятельного феномена. Такой подход, опирающийся на структуру общения как единства коммуникативной, перцептивной и интерактивной сторон [9], предполагает выделение соответствующих стилей и находит свое отражение в ряде эмпирических исследований [101, 132]. В частности, на основании особенностей направленности личности и позиции субъекта в процессе общения были выделены девять основных интерактивных стилей общения: власти, опеки, наставничества, жалоб, послушания, поиска поддержки, соперничества, самодискредитирования и межличностного единства [101].
Вторым, пожалуй, наиболее крупным направлением в этой сфере стало изучение стилей руководства. Систематизация основных направлений исследований в этой области позволила выявить четыре основных подхода:
1) поведенческий, связывающий стили с манерой поведения руководителя, а также с особенностями личности, мотивацией и поведением подчиненных;
2) личностный, акцентирующий внимание на личностных детерминантах стиля руководства;
3) комплексный, предполагающий обобщение известных детерминант стиля;
4) структурно-функциональный, ставящий вопрос о его внутренней организации [119].
Одно из первых описаний стиля руководства принадлежит К. Левину и его коллегам. Он, который предложил три основных стиля, ставших традиционными в социально-психологической науке и представляющих собой базу для дальнейшего развития, – авторитарный, демократический и либеральный [272]. Данная классификация получила дальнейшее развитие и конкретизацию в отечественной и зарубежной психологии [31, 96, 185]. Так Ф. Фидлер, выдвигая в качестве критериев оценки степень направленности личности – направленность на задачу или на межличностные отношения, выделяет восемь стилей [185]. В работах других исследователей, опирающихся на те же самые критерии, количество стилей сокращается до четырех [273].
А.Л. Журавлев рассматривает стиль руководства как интегральную характеристику, структура которой включает одновременное сочетание трех в разной степени выраженных компонентов – директивности, коллективности и невмешательства. Доминирование одного компонента определяет три традиционных типа, доминирование двух компонентов дает промежуточные стили (директивно-коллегиальный, директивно-попустительский), а равная представленность всех трех компонентов предполагает наличие смешанных стилей [31].
Личностное направление в исследовании стиля представлено в работах Н.В. Ревенко, где основными детерминантами стиля являются личностные особенности руководителя и отношения с подчиненными. В основу классификации стиля автор кладет такие факторы, как «авторитарность – либеральность», «контактность – дистантность», «властвование – подчинение» и т. п. Использование разных сторон стилей зависит от ситуации, конкретной задачи и особенностей подчиненных [96].
Обусловленность стиля руководства отдельными особенностями его личности представлена и в ряде других работ [см. 132].
Дальнейшее развитие личностного подхода к определению стиля управления можно найти в работах А.В. Карпова и Е.В. Марковой, где реализуется структурно-уровневый подход к изучению личностных детерминант стиля руководства, подчеркивающий его обусловленность не отдельными параметрами личности, а их структурной организацией [50].
Попытки интегральной модели стиля руководства мы находим в исследованиях А.А. Русалиновой. Автор определяет типический стиль как стабильно проявляющиеся особенности взаимодействия руководителя с коллективом, который формируется под влиянием как личностных особенностей руководителя, так и объективных условий управления [104]. При этом подчеркивается отсутствие жесткой связи между личностными особенностями руководителя и его стиля, а она опосредуется характером ситуации взаимодействия с подчиненными [104].
Структурно-функциональный подход к стилям руководства реализуется в работах Б.Б. Косова, который выделяет несколько блоков переменных, куда входят «социально-психологические функции и особенности руководителя», «волевые качества», «когнитивные свойства» и т. и. [61].
Выделение исследований по стилям руководства в отдельное направление вызвано, на наш взгляд, значимостью этой сферы социальной психологии. Вместе с тем управленческая деятельность обладает общими чертами с другими видами профессиональной деятельности, что, в свою очередь, позволяет говорить и об общих закономерностях функционирования и формирования ее стилей. Данный подход реализуется в работе В.А. Толочека, определяющего стиль деятельности как специфическую стратегию адаптации к среде [119]. Такое понимание позволяет ему выделить три основных стиля любой деятельности независимо от ее специфики: преобразование (авторитарный стиль в управлении, атакующий стиль в спорте), взаимодействие (демократичный стиль в управлении и контратакующий, игровой, комбинационный стиль в спорте) и сосуществование (либеральный, защитный стиль) [119].
Таким образом, исследования, связанные с изучением индивидуального стиля профессиональной деятельности и стилей социального взаимодействия можно объединить в одно направление. В плане рассмотрим работы по взаимосвязи выгорания и стилевых особенностей как профессиональной деятельности, так и социального взаимодействия.
Анализ исследований отечественных и зарубежных психологов в этом направлении продемонстрировал их малый объем и разрозненность. Практически все работы, связанные с изучением позиции работников по отношению к своим реципиентам, показывают наличие взаимосвязи между данной характеристикой и выгоранием [270, 296, 318, 323]. Установлено, что тактика отстранения от клиентов в виде самоотчуждения, или отсутствия значимости в своей работе у социальных работников и у медицинского персонала дает низкие или средние значения выгорания [270, 296, 323]. Данная зависимость может быть обусловлена спецификой самой деятельности. Так, медицинский персонал, работающий в сообществах и имеющий тесный непосредственный контакт с пациентами и их эмоциональными проблемами, более подвержен влиянию стрессовых факторов, чем медицинский персонал больниц, основными функциями которого являются профессиональные контакты и надзор за больными [290]. В педагогической деятельности, например, учителя, характеризующиеся наличием опекающей идеологии во взаимоотношениях с учениками, а также применяющие репрессивную и ситуационную тактики, демонстрировали высокий уровень выгорания [263, 318]. В работах, посвященных изучению стилевых особенностей поведения педагогов, было показано наличие корреляционных связей между стратегиями педагогов и составляющими выгорания [98, 343].


