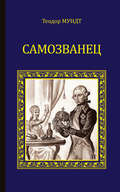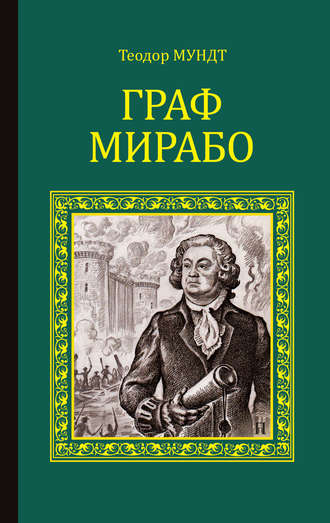
Теодор Мундт
Граф Мирабо
VII. «Свадьба Фигаро»
На предстоящее в театральном зале отеля «Водрейль» представление «Свадьбы Фигаро» Бомарше к восьми часам вечера к великолепному отелю маркиза стали съезжаться блестящие экипажи со всех концов Парижа.
Сначала гости собирались в небольших салонах, своеобразно устроенных. Один из них был музыкальной комнатой со всевозможными инструментами. В другом находилось все необходимое для живописи и рисования, и если бы кто из общества пожелал показать свой талант, то к услугам своим нашел бы краски, кисти и все прочее. В третий салон был завален драгоценными гравюрами и рисунками; далее следовал великолепно устроенный, роскошнейший кабинет для чтения. Любитель искусств и гордый именем покровителя всех муз, маркиз устраивал у себя вечера, на которых при самой оживленной беседе шла в этих салонах усердная работа и случалось, что именно здесь набрасывалось или обсуждалось произведение, становившееся впоследствии известным.
Сам маркиз, одна из наиболее блестящих личностей тогдашнего общества, обладал великолепным голосом, и пение его было предметом всеобщего восхищения. Благодаря этому таланту, давшему ему доступ в придворные сферы, а также изяществу своих манер и изысканной любезности, маркиз де Водрейль, не будучи одним из выдающихся умов того времени, сделался, однако, видным и влиятельным лицом не только между литераторами и художниками, но и при Версальском дворе, в кружке, сгруппировавшемся преимущественно около королевы.
Сегодня все члены этого интимного кружка Марии-Антуанетты собрались в отеле Водрейль на представление так сильно нашумевшей комедии. Во главе их находились прелестная графиня Жюли де Полиньяк и ее невестка, гордившаяся и даже кокетничавшая своим умом, графиня Диана де Полиньяк. Влиянию именно этих двух дам, сильно заинтересовавшихся комедией Бомарше, должно приписать то, что королева, а через нее и король изъявили согласие на пробное представление в отеле «Водрейль» перед избранной публикой пьесы, будто бы переделанной автором.
Смелая и веселая графиня Диана, недавно назначенная статс-дамой к графине Артуа, та самая, которая таким необыкновенным образом выказала свои симпатии Бенджамину Франклину и американской свободе, встала на защиту свободы комедии Бомарше; противостоять ее милым козням было нелегко.
Перед началом спектакля обе графини Полиньяк, окруженные избранным кружком своих друзей и поклонников, вели негромкую, но оживленную беседу в музыкальной зале, обсуждая возможность публичного представления «Свадьбы Фигаро».
– Отвечаю за всякие дурные последствия, могущие произойти от сегодняшнего спектакля для вас, любезный маркиз, – сказала прекрасная графиня Жюли де Полиньяк с гордым сознанием своего нового важного положения, занятого ею с прошлой зимы при особе королевы.
– Я не тревожусь о последствиях, – возразил маркиз Водрейль, с изысканною вежливостью и почтением обращаясь к графине. – Но меня начинает немного мучить совесть; я нахожу, что господин Бомарше мог выбросить хотя бы некоторые неприличные места, замеченные королем с таким неудовольствием.
– Господин Бомарше упрям и не пожелал этого сделать, – ответила графиня Полиньяк, улыбаясь и показывая ряд ослепительно-белых зубов. – Но раз пьеса будет представлена здесь и такие выдающиеся при дворе лица, как вы, маркиз, или наш милый швейцарский полковник, господин де Безенваль, засвидетельствуют ее безопасность, король будет рад отменить свой прежний строгий приговор, разрешив представление пьесы и уничтожив, таким образом, неудовольствие публики. Все мы сделали доброе дело, а вы, господин маркиз, можете опять гордиться, что одно из образцовых национальных произведений возродилось к жизни в отеле «Водрейль».
Благодарный маркиз поцеловал графине руку со всею утонченною изысканностью манер французского двора.
– Имея графиню Жюли во главе, мы можем смело вступить в бой, – сказал галантно барон Бенезваль, начальник швейцарской гвардии, пожилой человек с белоснежными волосами, простой и искренний. Благодаря этим качествам он стал доверенным лицом у дам, которым, однако, несмотря на свои годы, он не переставал поклоняться. В настоящее время предметом его восхищения была графиня Жюли де Полиньяк.
– В самом деле, мы здесь собрались, точно заговорщики, – начала графиня с неотразимою веселостью. – Но присутствие между нами славного, доброго начальника швейцарской гвардии должно, мне кажется, оправдать наши намерения.
Графиня Жюли де Полиньяк, не будучи перворазрядной красавицей, была очаровательна своею непринужденностью, изяществом и необыкновенною простотой своего туалета. Этой же простотою и веселостью покорила она и сердце королевы, не проводившей без нее ни одного дня.
В эту минуту вошли Мирабо и Шамфор и, остановившись у дверей, разглядывали собравшееся общество.
– Мы очень рано приехали, – заметил Мирабо, бросая беспокойные взгляды повсюду. – Пока на месте одна лишь разряженная дворня, замышляющая сегодня что-то необычайное. А я между тем в страшном нетерпении. Если б уж эта проклятая комедия началась, мы могли бы завязать нашу собственную интригу и убедиться в счастливом бегстве Генриетты!
– Для этого нужно нам прежде просмотреть одно или два действия «Фигаро» Бомарше, – возразил Шамфор, посмеиваясь, и с этими словами оба друга перешли в соседний салон, чтобы и тут поглядеть на собравшихся.
– Право же, там Дидро! – внезапно воскликнул Шамфор, показывая на группу гостей, посреди которой выдавалась высокая, внушительная фигура мужчины с привлекательными чертами лица. – Мне не верилось сегодня словам маркиза, что Дидро будет у него вечером; мы ведь знаем, как он болен. Но маркиз, как видно, сумел его поставить на ноги. У этого человека настоящий талант собирать у себя людей. А вот и милейший старик, барон Гольбах, на верную дружескую руку которого Дидро опирается в эту минуту.
Они подошли ближе, и Дидро, едва увидав обоих друзей, поспешно повернулся в их сторону и, выходя из круга обступивших его, любезно приветствовал их, с особенною симпатию пожимая руку Шамфора.
– Вы видите меня вновь восставшим из мертвых единственно для того, чтобы познакомиться со «Свадьбою Фигаро» Бомарше, – сказал Дидро своим приятным голосом, едва пострадавшим от болезни и лет.
Дидро шел семьдесят первый год, и он мог бы еще назваться красивым, если бы не всевозможные физические страдания, оставлявшие мало надежды на продление его жизни и в последнее время наложившие свою печать на его могучую фигуру. Однако в необыкновенно красивых больших глазах горел еще неугасаемый огонь гения, а тонкие губы оживлялись прелестью беспримерного даже в обыкновенном разговоре красноречия.
– Вижу там уединенный уголок, где мы можем посидеть, – сказал Дидро, направляясь под руку с Гольбахом к дивану, стоявшему в углу залы. Мирабо и Шамфор, по дружескому знаку его добрых глаз, последовали за ним.
– Печально и больно, – тихо сказал Мирабо Шамфору, – видеть разрушающегося героя, вся духовная мощь которого не может, однако, защитить его от этой дани ничтожеству! Смотри, как он едва тащится и покачивается, и это Дидро, та великая голова, которая учила французов, что все в мире – материя и что полагаться должно на одну лишь природу. А рядом с ним не менее знаменитый барон Гольбах, который еще кое-как держится. И вот два старика, написавшие вместе «Систему природы» (Systeme de la nature), два исполина ума, дряхло покачиваются перед нами. А мы, молодые, что мы можем предъявить, чтобы достойно называться их наследниками?
– Ну, вслед за этими двумя титанами мы уж проскользнем как-нибудь, – весело заметил Шамфор. – Добрый, милейший Дидро, его время прошло, конечно, но ему все-таки есть что вспомнить. Веди он себя поосторожнее при дворе императрицы Екатерины, он, вероятно, создал бы себе блестящее положение в Петербурге.
Дидро и Гольбах опустились на диван, а Мирабо и Шамфор в кресла рядом с ними.
– О ты, которого я здесь вижу и лишь в эту минуту вполне узнаю, ты – граф Мирабо, тот, который, подобно мне, сидел в Венсеннском замке, размышляя о будущности Франции! – воскликнул Дидро патетическим голосом.
Мирабо поклонился и с благоговением пожал протянутую ему руку.
– Да, это была роковая для меня минута, когда за мои сочинения, частью уже оконченные, частью лишь начатые, я был препровожден в Венсенн, – продолжал словоохотливый Дидро, но был прерван подошедшим к ним в эту минуту несколько беспокойною и торопливою походкой человеком среднего роста, который почтительно поклонился и представился группе друзей.
Это был автор комедии, барон Бомарше, человек лет пятидесяти, светлые, блестящие глаза которого выражали проницательность и ум; главною же и характерною чертою всей физиономии было плутовское лукавство, сразу не внушавшее к нему доверия.
– Вот счастье, что к нам подошел Бомарше, – сказал Шамфор, обращаясь к Мирабо, – иначе Дидро не перестал бы говорить. Мне еще никогда не удавалось прервать «золотой язык Дидро», как его так красиво прозвали, каким-либо ловко вставленным замечанием.
В это время со всех сторон гости стали стекаться в великолепную, огромную театральную залу. Многочисленное общество заняло свои места, нетерпеливо ожидая поднятия занавеса.
Пьеса разыгрывалась артистами из Theatre francais с первоначальным распределением ролей для представления, запрещенного королем.
Комедия началась живым, частью забавным, частью сварливым разговором между Сюзанною и Фигаро, которые ввиду предстоящей свадьбы тревожатся желанием графа Альмавивы воспользоваться своим известным феодальным правом. Едва публика успела понять, что здесь под замком графа Альмавивы речь идет о Франции и испорченности нравов всего общества, как живые и веселые сцены стали сменять одна другую. Появление влюбленного в графиню пажа Херувима, потом графа Альмавивы, требующего от Сюзанны принадлежащего ему феодального права; внезапное появление Дона Базилио, от которого Сюзанна скрывает графа за креслом, где уже спрятан паж; ловкие хитрости находчивого Фигаро – все это вызывает громкие взрывы смеха и одобрения. Так проходят два первые действия при все более и более возрастающем интересе и при всевозможных самых разнообразных суждениях публики.
– Ну, как ты себя чувствуешь, мой друг? – обратился Шамфор к замечтавшемуся Мирабо. – Разве эта комедия не заключает чего-то необыкновенного, удивительно привлекательного и заставляющего задуматься?
– Ты поэт, – возразил Мирабо, – и, конечно, более, чем я, склонен откапывать символическое значение в этой пошлой комедии. Я же в эту минуту думаю только о Генриетте, милой девушке, дрожащей там дома, и сердце мое сильно бьется над развязкою этого узла. Не забудь только выйти вовремя. Мы ведь условились так, что по окончании третьего действия, во время более продолжительного антракта, ты удалишься. При появлении же твоем вновь в зале я заключу, что ты возвратился счастливо и что экипаж с Генриеттою и ребенком находится в безопасном месте, во дворе отеля. Тогда я выхожу, готовый пуститься в путь, и прощаюсь с тобою на некоторое время, мой Шамфор!
Шамфор кивнул ему головой, делая знак своими прекрасными, преданными глазами, что все понято им хорошо, и в эту минуту занавес вновь взвился, и началось третье действие.
Колкие остроты в этом действии комедии неоднократно вызывали взрыв восторженного одобрения зрителей. В особенности же места, направленные против аристократии, сопровождались поистине бурными рукоплесканиями со стороны самых знатных лиц собравшегося общества. Рукоплескания эти выражали или согласие с автором, что было ясным доказательством начинающего уже распространяться в придворных кругах настроения; или же это был способ противостоять жестокой правде, принимая ее лишь как блестящее остроумие и потешаясь им. Так, все присутствующие государственные люди и дипломаты аплодировали в особенности тому месту, где Фигаро, со своим здоровым природным остроумием, разъясняет, что такое, в сущности, политика, соединяя с этим понятием самые предосудительные поступки. На это граф Альмавива слабо возражает:
– Это не политика, это – интрига!
Но такое наивное заявление представителя испорченности нравов вызвало взрыв хохота и несмолкаемые рукоплескания. Под влиянием все возрастающего интереса к пьесе общество, не отдавая себе само в этом отчета, вступало на путь политики. Особенно сильно выразилось это в сцене суда, где граф Альмавива, как судья среди своих вассалов, должен произнести решение по делу Фигаро с Марселиной, требующей, чтобы Фигаро женился на ней.
Вся слабость и негодность старого судопроизводства осмеяна здесь самым беспощадным образом. И вдруг сцена принимает до невероятности легкомысленный оборот: по пятну на руке Фигаро признан сыном той самой Марселины, которая хотела его заставить жениться на себе. Тут Марселина, как бы в роли хора древней комедии, мгновенно превращается в адвоката угнетенных женщин, и все положение, не теряя фривольного характера, возвышается до истинной философии.
В эту минуту, когда опускался занавес, Шамфору удалось незаметно удалиться. Мирабо стал беспокоиться. Нетерпение, с которым он ждал возвращения своего друга, постоянно усиливалось, и самые мрачные мысли лезли ему в голову. Разговор, в который маркиз де Водрейль старался вовлечь его теперь с графинями Полиньяк, наталкивался лишь на односложные ответы Мирабо, так что начавшаяся уже распространяться при дворе слава его как таланта и выдающейся личности оказалась в опасности.
Так начался четвертый акт, но Мирабо с трудом мог следить за ходом пьесы. Голова его невольно оборачивалась к двери, в которую он ежеминутно ожидал увидеть Шамфора. Но возвращение последнего замедлилось, и Мирабо мучился, допуская возможность, что Генриетта, несмотря на все предосторожности, узнана и задержана полицией. При этой мысли, вместе с невыносимым страданием и гневом, он чувствовал, как ему дорога его новая подруга, и страстное желание видеть ее овладело им с неудержимою силою.
Шамфор все еще не появлялся. С окончанием четвертого акта беспокойство Мирабо дошло до крайней степени. Он был не в силах оставаться на месте, встал и вышел в переднюю, через которую Шамфор должен был вернуться.
Начался пятый акт. Мирабо стоял в дверях зала, в нерешительности, оставаться ему или поспешить к себе домой, чтобы узнать о случившемся. В эту минуту комедия открылась сценой ночного rendez-vous[10], в которой все скопившиеся несчастья разрешаются самой забавной и одновременно колкой насмешкой, наказывающей виновного виновным же, и где в конце концов каждый получает лишь то, что ему принадлежит на самом деле, по праву и закону. Фигаро, закутанный в плащ, в темноте произносит свой удивительный монолог о судьбе, жизни, обществе, ясно намекая на происхождение и исключительное положение графа. С дьявольской хитростью произносит он слова: «Дворянство, состояние, звание, почетная должность – все это так сильно возбуждает гордость. А что же вы сделали для всего этого благополучия? Вы приняли на себя единственный труд – родиться, и больше ничего! Вообще же вы – совсем заурядный человек».
Тут Мирабо почувствовал, что его кто-то тихонько трогает за плечо, и, обернувшись назад, увидал Шамфора, легким кивком головы показывавшего ему, что все исполнено.
Продолжительное ликование, возбужденное среди зрителей монологом Фигаро, дало друзьям возможность незаметно удалиться.
Мирабо поспешно последовал за своим другом в аван-залу, и, лишь дойдя до лестницы, они обменялись несколькими, шепотом сказанными, словами.
– Все чуть не пропало, – сказал Шамфор. – Полиция, как цербер, сторожащая твой дом, заподозрила прелестную провансальскую крестьянку, с которой я как раз собирался скользнуть в карету. Потребовали сведений о ней и о том, куда мы едем. Повинуясь твоим наставлениям, я показал на имя и герб маркиза де Водрейль, рассказал им длинную, обстоятельную историю на счет того, почему твой ребенок с няней должен быть отвезен к маркизе, причем живо всунул твою Генриетту в экипаж, а их с дальнейшими расспросами просил обратиться лично в отель «Водрейль». Эти противные сыщики, однако, напугали меня, потому что, как тебе известно, я совсем теряюсь, приходя с ними хотя бы в малейшее соприкосновение. Однако теперь мы благополучно прибыли, и Генриетта со страстным нетерпением ждет тебя.
Шамфор довел друга до скрытой в сарае кареты. Мирабо быстро вскочил в нее, закрыв рукою рот Генриетте, готовой было вскрикнуть от радости. Маленький Коко лежал у нее на коленях и крепко спал.
Шамфор с минуту постоял на подножке, напутствуя их сердечными пожеланиями. Потом с озабоченным видом обратил их внимание на английский паспорт, вручая Мирабо портфель, в котором он был вложен; Генриетте же советовал немедленно переодеться, для чего все нужное она найдет приготовленным в экипаже, так как, по паспорту, она бонна-англичанка. Генриетта сердечно, с благодарностью жала ему руку.
– Ну, прощай, мой друг Шамфор! – сказал Мирабо, обнимая его. – Поклонись там в зале всем Альмавивам, которых я должен покинуть на некоторое время. Боюсь, что путем легкой комедии Альмавивы не исправятся, и нам придется скоро начать для этого во Франции более серьезную игру. Напишу тебе, как насчет этого обстоят дела в Англии. Конечно, находясь там, буду изучать английскую свободу. Прощай, я люблю и уважаю тебя, Шамфор. Люби и ты меня немного!
Экипаж покатил вперед и скоро достиг цели.
У подошвы Монмартра, в условленном месте, стояла дорожная карета, в которую следовало пересесть из экипажа маркиза де Водрейль, и у дверей которой секретарь Гарди и камердинер ожидали Мирабо. Тут же находилась и мисс Сара, составлявшая нераздельную часть семьи и лаем и визгом выражавшая счастье встречи своего господина.
Караван приготовлялся немедленно пуститься в путь. Мирабо подсадил в экипаж Генриетту, всеми силами старавшуюся успокоить маленького Коко, разбуженного лаем собаки. Рядом с кучером сел секретарь, камердинер поместился позади кареты, и таким образом наполненный дорожный экипаж повернул на залитую лунным светом большую брюссельскую дорогу.
VIII. Прогулка по Лондону
Уже несколько дней Мирабо и Генриетта находились в Лондоне. Верный своим привычкам, Мирабо занял большую дорогую квартиру в одной из лучших улиц Вест-Энда, на что потребовалась значительная часть наследства Генриетты, полученного в Брюсселе.
Был прекрасный летний день. Мирабо, отложив некоторые дела в городе, рано вернулся домой, желая уговорить милую подругу, не покидавшую еще со времени прибытия в Лондон своей квартиры, прогуляться с ним по городу. Он надеялся, что великолепная погода и бальзамический воздух на улицах и площадях Лондона будут самым действительным лекарством для сильно пострадавшего во время путешествия здоровья Генриетты.
Она с радостью согласилась, и на бледных щеках ее заиграл на минуту прелестный румянец. Быстро поднимаясь с места, на котором сидела с какой-то работой в руках, она хотела поспешно одеться для прогулки, но вдруг, грустно улыбаясь, заметила, что должна осторожнее обращаться со своими слабыми силами.
Здоровье ее пострадало от утомлений и опасностей, которыми сопровождалось их морское путешествие. Два раза при переезде из Франции в Англию им угрожала гибель. В первый раз, в открытом море поднялась такая буря, что их дряхлый пакетбот делался почти целиком добычею ветра и волн. Второй раз, уже в гавани, чуть не произошло кораблекрушение. Почти на виду Лондона, по недосмотру руль получил такой сильный толчок о скрытый в воде якорный канат, что судно при сильнейшей килевой качке стало уже наполняться водой. К этим опасностям присоединилось еще у Генриетты непрерывное страдание морской болезнью, так сильно ее изнурившее, что по прибытии в Лондон Мирабо был вынужден тотчас же послать за врачом.
– Бедное дитя, – сказал Мирабо, глядя на ее изнуренный вид, – видно, что ты путешествовала с Мирабо. Было ли хоть раз, чтобы в моем путешествии не сопутствовали мне несчастия и опасности? Еду я по большой дороге – колеса ломаются; на море достаточно моего присутствия, чтобы все ураганы обрушились на мой корабль. У меня сейчас же, при малейшем случае, дело идет о жизни и смерти. И в судьбу такого-то человека вошла ты, моя милая, невинная Генриетта! Боюсь, как бы ужасы этого путешествия не нанесли серьезного вреда твоему прелестному нежному телу.
– Я теперь решилась быть совсем здоровой, – сказала Генриетта, – а то мое теперешнее состояние, раздражающее меня, невыносимо и для всех нас. К тому же на то, чтобы хворать, доктора здесь слишком дороги. За каждый визит – гинею, это нестерпимо и угрожает скорою гибелью нашей кассе.
– А, тут я узнал мою милую скрягу! – воскликнул Мирабо, смеясь.
– Противным деньгам я не придаю никакого значения, – возразила Генриетта, глядя на него серьезно своими доверчивыми, ясными глазами. – Но меня огорчает, когда ты должен беспокоиться. Вот почему мне хотелось бы, чтобы наш денежный запас мог существовать вечно. Однако на это не похоже. Мирабо, мы слишком много тратим, и я страшно боюсь, что ты вдруг опять с тревогою спросишь меня: «Генриетта, а где же деньги?»
– На этот раз ты можешь быть спокойна, потому что скоро я получу много денег, добрая моя графиня Иетт-Ли! – сказал Мирабо, называя ее, как он это часто делал, последними Словами ее двух имен, Генриетт-Амели, и присоединяя вместе с тем титул графини, с которым и прислуга должна была обращаться к ней.
– Нельзя же не жить прилично, – прибавил Мирабо в то время, как госпожа Нэра поспешно оканчивала свой туалет. – Правда, деньги у нас опять начинают исчезать. Великая, вечно необъяснимая тайна отлива моря владеет еще более необъяснимым образом нашей кассой. Но постой, Иетт-Ли, на этот раз я позаботился и о приливе. Я задумал крупные литературные работы, которые принесут мне большие выгоды. Все утро сегодня бегал по Лондону, призывая целый сонм издателей под знамя моего гения. И это окажет свое действие, можешь вполне положиться на это. Мое сочинение о цинциннатском ордене я уже пристроил. Через несколько месяцев оно выйдет из печати здесь, в Лондоне, и будет произведением, где я выступлю перед публикой с поднятым забралом, назвав себя полным именем. Другому издателю я обещал написать кое-что о свободе плаванья по Шельде в смысле, благоприятном для голландцев, взимающих, по своему столетнему договорному праву, пошлину у устьев Шельды и тем отрезывающих австрийцев от моря. Гонорар, конечно, будет не велик, но это сочинение мне поможет приобрести много друзей в Лондоне и Париже. И вообще, Иетт-Ли, голова моя кишит литераторскими проектами, которые должны принести свои золотые плоды. Для меня безразлично, что написать. Будь это география или китайская грамматика – все равно, но работать я хочу и буду. Секретарь Гарди сидит там в кабинете и должен целыми днями делать извлечения из книг и журналов, которые мне необходимы для особой цели. Вот видишь, все это должно иметь успех, и издатели будут меня скоро осаждать самыми блестящими предложениями.
Генриетта, уже готовая для прогулки и утвердительно покачивая головой при его последних словах, подошла к нему ближе, чтобы дать посмотреть на себя, в ожидании его приказаний.
– Идем, – сказал он, целуя ее руки и долго глядя на нее. Его взгляд, казалось, вновь оживлял всю ее прелесть и красоту; щеки покрылись нежным румянцем, а когда она оперлась на его руку, то почувствовала, как будто и силы возвращаются к ней.
Они направились сначала по главным улицам Лондона, вид и характер которых возбуждали удивление Мирабо, в то время как Генриетта делала сравнения с Парижем и Амстердамом.
– Здесь я буду себя чувствовать отлично, – сказал Мирабо, – потому что куда ни посмотришь, везде видно довольство, чистота и человеческое достоинство. Здесь, на улице, невольно чувствуется, что находишься в стране, где народ есть нечто, и что каждый человек может свободно развивать и применять свои способности. Посмотри только на эти великолепные тротуары, доказывающие, что тут занимаются и теми, кто пешком ходит. А эти громадные пространства, не имеющие себе подобных ни в одном городе старого света! А эта удивительнейшая чистота! Да, Лондон величественный город! Каждая черепица на кровле говорит нам, что здесь живет собрание людей, управляющих собою собственною силою воли. Хотя в этом из кирпича построенном городе мало видно блестящих и выдающихся своим стилем домов, но величие его заключается в разлитой повсюду идее национальности, благодаря которой все так удобно и уютно, надежно и самостоятельно. И, как символ этого величия, волнуется гордая, чудная Темза, как бы принимая поклонение всякого, кто смотрит на нее, спрашивая: «С чем посмеете вы меня сравнить, меня, которой ежедневно океан и все миры приносят дань свою».
– Я скоро начну ревновать к этому Лондону, – сказала Генриетта, прижимая руку Мирабо. – Не могу вынести, когда ты так страстно превозносишь что-нибудь на свете, будь это хоть стены и камни города.
– Да ведь в Париже тебя самое принимали за англичанку, – смеясь возразил Мирабо. – Во время наших прогулок по бульварам я часто слышал фразу, звучавшую тебе вслед: «Ах, посмотрите на эту красивую блондинку-англичанку!» Скоро, впрочем, и ты будешь иметь возможность потешаться надо мной, потому что, если и дальше будет мне здесь так хорошо, то в один прекрасный день вместо Гонорэ-Габриэля Рикетти графа Мирабо окажется в высшей степени почтенный Жак Росбиф! Тогда уже, конечно, я буду потерян для Франции. Впрочем, едва ли когда-либо удастся мне быть полезным этой проданной своему двору стране.
– Однако что-либо подобное прекрасным парижским бульварам едва ли можешь ты мне показать в Лондоне, – сказала Генриетта в то время, как они поворачивали на Регент-стрит и очутились среди поразительного, подобного торжественному шествию, оживления этой улицы, переполненной целыми толпами пешеходов и самыми разнообразными один возле другого движущимися экипажами, без малейшего, однако, нарушения удивительного порядка и спокойствия.
– Здесь лучше, чем на парижских бульварах, – возразил Мирабо, указывая на это движение с такой ясной и довольной улыбкой, какой его спутница давно уже не видала у него на лице. – Здесь виден народ, видна целая здоровая нация, которая в своем стремлении жить катится подобно потоку, повинующемуся лишь собственным законам движения. В Париже, дорогая графиня Иетт-Ли, пока еще нет народа. Впереди то время, когда мы из мутной, лишенной физиономии пресмыкающейся массы сделаем народ, который будет знать свои права и благодаря этому станет живым и способным к жизни существом. То, что ты видишь на бульварах, это не народ, это лишь пестрая кожа змеи, подстерегающей минуту, когда одним взмахом хвоста она перевернет весь Париж.
– Но на меня толпа поглядывает здесь так дико и язвительно, – заметила госпожа Нэра после некоторого молчания, боязливо прижимаясь к Мирабо.
В эту минуту кучка простых людей, между которыми было несколько пьяных матросов, прошла мимо них. По выражению их лиц и по жестам Генриетта заметила, что они обратили на нее внимание и находили в ней что-то странное.
– Как видно, в Лондоне меня не желают признавать такой хорошей англичанкой, как делали это еще недавно на бульваре в Париже, – сказала Генриетта, обращая внимание Мирабо на возбужденное ею любопытство. – Подозреваю, что всему причиной мой парижский туалет. В особенности должна их поражать моя громадная шляпка с перьями.
– Пойдем спокойно дальше, – сказал Мирабо, – туалет же твой мы еще сегодня заменим прекраснейшим образом. В этом отношении народ здесь глуп. Над всем чужестранным он простодушно смеется и думает, что имеет на это право, чувствуя себя в своей собственной коже таким уверенным и обособленным. В этом случае парижанин цивилизованнее и не выказывает так явно своего ребячества.
Они шли дальше, и Мирабо не замечал, что из этой несколько шумной группы людей, считавшей своим долгом потешаться при виде Генриетты, несколько шутников, отделившись и повернув назад, со всевозможными ужимками и восклицаниями, возбуждавшими громкий смех остальных, проскользнули вслед за ними.
Генриетта, начинавшая все более бояться, убедительно просила взять фиакр. Мирабо стал теперь тоже замечать увеличивающуюся толпу, однако находил, что это будет трусостью – внезапно обращаться в бегство.
В эту минуту они повстречались с господином и дамой, в которых узнали спутников по переезду морем из Франции в Англию. Это были ирландец и парижанка, по всей вероятности, увезенная своим спутником. Во время путешествия она была так мила и умна, что Мирабо с удовольствием познакомился и разговаривал с нею.
Пока, остановясь на улице, они обменивались любезными приветствиями и взаимными расспросами, странные уличные субъекты, сопровождавшие Мирабо и Генриетту, нашли, казалось, новый и еще больший повод для своих насмешек. Парижская дама, следуя господствовавшей в столице Франции моде, имела тоже на голове громадный пук перьев; костюм же ее представлял для английской уличной публики еще более странностей, чем костюм Генриетты.
Окружившая свои жертвы толпа стала выражать опасное настроение сперва сдержанным говором и шепотом, а затем громким смехом. Потом из толпы выделился дикого, полусумасшедшего вида человек; с большой трубой и с кривляньями пьяного приблизился он к обеим дамам, с испугом глядевшим на него, и каким-то очень забавным комплиментом, обращенным к ним, вызвал радостные восклицания своих товарищей.
Это был, как видно, известный всем шут из одного из находившихся в соседних маленьких улицах кабаков; звали его почтительным именем «лорда-трубача», что, кажется, было его прозвищем. Слава его как комика была, по-видимому, также велика, потому что теперь настала тишина в ожидании того, что он намерен предпринять.
А лорд-трубач вступил в свою роль, делая невероятные гримасы почти прямо в лицо обеим дамам. Эти гримасы, в которых он был настоящим виртуозом, так характерно и точно изображали странные наряды и в особенности головные уборы дам, что этой карикатурой был сразу произнесен над ними приговор. Вслед за этим, при общем веселии, он вдруг заиграл на своей трубе, как бы желая звучной фанфарой возвестить всей улице о сделанных им наблюдениях. Повторив это несколько раз, он довел толпу до оглушительных возгласов одобрения.
Генриетта выбрала при этом самое разумное поведение, начав от души смеяться над всеми дурачествами лорда-трубача, чему помогла присущая ей веселость и невольное воспоминание о детских годах в Амстердаме, где подобные уличные сцены в порядке вещей.