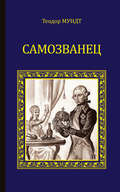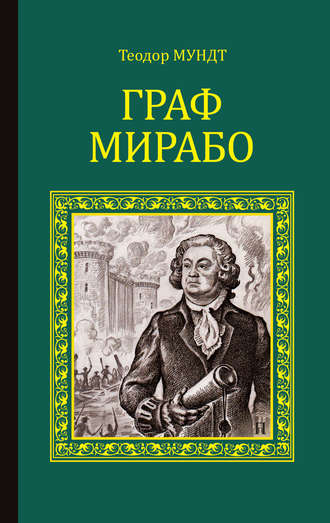
Теодор Мундт
Граф Мирабо
При этих словах Мирабо вскочил и стоял одну минуту среди комнаты, как бы увлеченный мыслями о будущем, задумчивый и неподвижный. А яркий луч утреннего солнца, взошедшего уже на горизонте во всем своем величии, проникнув в окно, осветил точно пылающим ореолом голову Мирабо. Генриетта, долго с восторгом смотревшая на него издали, теперь тихонько приблизилась к нему, желая вывести его из этого мечтательного онемения и вернуть к действительности. Но, подойдя и увидав перед собою всю мощь его фигуры, она, казалось, не посмела этого сделать.
В эту минуту он что-то тихо шептал сам с собою, сильно жестикулируя, и Генриетта, дрожа, вновь опустила руку, которой только что хотела тронуть его.
Наконец Мирабо заметил ее, смотревшую на него с благоговением и робкою улыбкою.
– Это ты, мое чудное, доброе дитя! – сказал он, поглаживая и лаская ее руку. – Прости, что на минуту мысли мои удалились от тебя. Но я думал теперь о том, что такое в сущности деспотизм? Деспотизм – это губительная ненависть, всюду находящая причину для своего проявления, притягивающая свой предмет, как змея невинную птичку, которая до тех пор в страхе порхает кругом нее, пока наконец, не в силах более сопротивляться, сама опускается и влезает в ядовитую пасть. Так мой отец хотел погубить меня, чтобы доказать превосходство своей воли и силы, но он забыл при этом, что я состою из собственной материи и собственного духа, который должен образоваться в самом себе, чтобы сделаться способным и достойным к самосуществованию! Деспотизм – это повелитель, трон которого балансирует на головах рабов, потому что ему кажется опасным признать свободу народа и основать свои отношения с ним на любви и праве! Мне вспоминается одно происшествие из моего детства, углубившее пропасть между мною и отцом. Однажды отец неожиданно застал меня в моей комнате страстно декламирующим. С насмешкой, как всегда, говорит он мне:
– А-а, ты уже упражняешься, чтобы со временем играть роль французского Демосфена?
– Почему же нет, отец мой? – отвечаю я с веселою отвагою мальчика. – Быть может, однажды будут созваны государственные чины Франции, и тогда я буду говорить!
Отец побледнел и повернул мне спину. Несколько дней он не говорил со мной ни слова, но скоро после этого достал против меня lettre de cachet и, по поводу одной любовной интриги, возбудившей всеобщее внимание и в которой я принимал участие с легкомыслием семнадцатилетнего лейтенанта, заключил меня в крепость на острове Рэ. Да, да, он хотел даже выслать меня в голландские колонии в Индии, убийственный климат которых губит почти всех европейцев, отваживающихся бороться с ним. Только самые убедительные представления его друзей удержали маркиза Мирабо от приведения в исполнение этого покушения на жизнь собственного сына. Но за то он решился терзать меня медленнее убивающею пыткою, пользуясь малейшим поводом, хотя бы кажущимся, чтобы едва освобожденного из тюрьмы вновь лишать свободы. Даже теперь, когда мне казалось, что мои мучения окончились, примирение его со мною оказывается обманчивым. Он не только не выплачивает мне сумму, которую, по условию, обязался ежегодно давать мне на мое обзаведение и жизнь в обществе, чем ставит меня в самое затруднительное положение, но еще формально заявил, что ни он сам, ни фамильное имущество не будут отвечать за мои долги. Так и теперь еще он мстит мальчику, осмелившемуся когда-то мечтать о свободе Франции и о будущем созыве государственных чинов.
В эту минуту послышался сильный стук в наружную дверь, испугавший Мирабо. Он вдруг прервал свою речь и остолбенел. Стук повторился, сопровождаемый нетерпеливым мужским голосом, настойчиво и грубо требовавшим открытия двери.
Генриетта, отнесясь к этому совершенно спокойно, шла уже открывать дверь, когда была остановлена значительными знаками, делаемыми ей Мирабо. С испугом, столь противоположным только что выказанному им геройскому характеру, он приложил палец к губам, давая ей этим понять о необходимости полного молчания и тишины.
Генриетта сильно встревожилась. Ей вдруг пришло в голову, что это ее разыскивают, и ужас, которого при ее удивительной, полной доверия преданности к Мирабо не было и признака, выразился теперь на ее побледневшем лице.
С другой стороны комнаты открылась дверь; в нее поспешно вошел слуга, а за ним секретарь Мирабо, Гарди. Подойдя к графу, они шепотом сообщили ему о чем-то, выслушанном им с тревогой.
– Я думал, что это кто-нибудь из моих неотступных кредиторов, в последнее время часто сваливающихся на меня во время моего утреннего сна! – сказал Мирабо, подумав. – Но вы подслушали, что там внизу стоят двое полицейских. Это меня удивляет. Пусть один из вас сойдет вниз и постарается вступить как бы случайно в разговор с достопочтенными господами сержантами, чтобы узнать, чего они желают. Возможно, что их послал сюда мой отец; ведь во Франции lettres de cachet ежеминутно сыплются из облаков.
Секретарь, приняв поручение, вышел из комнаты. Когда Мирабо заметил сидящую на диване испуганную и дрожащую Генриетту, у него, казалось, промелькнула еще и другая мысль.
– Надо и о тебе позаботиться, мое сокровище! – сказал он, поспешно подходя к ней и уводя ее за руку.
Он подвел ее к стенному шкафу, быстро открыл его, обнаружив при этом потайную дверь, которая при нажатии им пружины открылась.
– Вот вход в маленькую комнатку; ее никто не найдет! – прошептал Мирабо. – Скройся на несколько минут, пока мы не узнаем, что значат эти полицейские розыски. Будь весела и спокойна, Генриетта. Отдаваясь графу Мирабо, ты, конечно, вошла в царство приключений, но все твои добрые ангелы охраняют твою душу и тело.
Гарди вернулся с известием, что полицейские находятся в поисках молодой дамы, увезенной этой ночью из одного парижского монастыря и скрытой, как думают, у графа Мирабо.
Мирабо велел тотчас же открыть им двери. Обыскав тщательно повсюду и убедившсь в напрасных подозрениях, сержанты, с вежливыми поклонами, удалились.
VI. Госпожа Нэра
Усиленные полицейские розыски вновь возобновились через несколько дней, и Мирабо заметил, что его квартира служит предметом постоянного надзора полиции.
Настоятельница монастыря, графиня Монтессюи, громко повсюду расточавшая свои проклятия графу Мирабо, прибегала ко всем своим влиятельным связям в Париже, чтобы вновь обрести свою бежавшую питомицу, спасению души которой, по словам сестры Анжелики, угрожала страшная опасность.
Производимый ею шум был так велик, что обратил внимание общества на это приключение, и Мирабо стал бояться за участь свою и своей новой подруги. Решиться на что-нибудь ему казалось тем более необходимым, что вот уже несколько дней, как Генриетта жила у него, подобно пленнице, скрываясь в безопасной пока потайной комнатке.
– Мы должны выйти из этого тягостного положения! – сказал однажды утром Мирабо Генриетте, удивленно и радостно смотревшей на него.
– Знаю, – продолжал он, – что до сих пор ты еще не испытала здесь свободы, милое, доброе дитя, хотя глаза твои еще более ясны и блестящи, несмотря на то что ты вынуждена прятаться за моей тюремной стеной. Но погоди, моя маленькая пойманная птичка, твой час пробьет. Я увезу тебя еще дальше, пока не увижу тебя вполне счастливой!
– Разве я уже не вполне счастлива? – спросила весело Генриетта. – Здесь, у Мирабо, разве это заточение? В монастырской келье было гораздо теснее; там я не могла плясать и прыгать целый день, как здесь. И воздух там в саду не был так прекрасен и свеж, как тот, которым я дышу вместе с тобою, друг мой, и птички в мрачной зелени деревьев, под моими окнами, не так весело щебетали, как твой маленький Коко, когда он примется смешить всех нас.
– Твой прелестный нрав делает тебя довольной, – возразил Мирабо, – но я недоволен за тебя! Я устал быть тюремщиком бабочки, которой нужно порхать в родном ей весеннем воздухе. Мы поедем на некоторое время в Лондон. Тем временем здесь все успокоится, и ты вернешься опять со мною сюда совсем другою и под чужим именем. Мы будем тебя выдавать за англичанку, для чего локоны твои довольно светлы, а лицо довольно бело и розово, мое сокровище! Лишь бы нам достать паспорт для особы этой национальности, тогда мы могли бы быть совершенно спокойны. Иначе твоя почтенная абэсса может выхлопотать lettre de cachet и засадить нас туда, где будет похуже, чем в твоем мирном монастыре.
– И нас бы разлучили? – спросила с ужасом Генриетта, прижимаясь к нему. – О Мирабо, тогда поедем в Лондон сегодня же, сейчас! А маленького Коко мы тоже возьмем с собою?
– Конечно, – ответил Мирабо, улыбаясь, – без него мы никуда не поедем. Я обязался торжественною клятвой никогда не разлучаться с маленьким веселым человечком. Но, к сожалению, ехать сегодня мы не можем. Говоря откровенно, как подобает между друзьями, у меня нет никаких денег. К тому же я еще не представляю себе ясно способа, каким я выведу тебя из этого дома. Жду к себе сегодня утром моего друга Шамфора, только что известившего меня, что он опять в Париже. С ним-то, хорошо знакомым со всеми моими делами, я посоветуюсь о том и другом, и уверен, что мой умный и хитрый овернец сумеет опять вывести меня из затруднения.
– Посоветуйся лучше сейчас же со мною! – воскликнула Генриетта, ласкаясь к нему. – Разве я тоже тебе не друг? Быть может, и я придумаю что-нибудь чрезвычайно умное, несмотря на т, что я не из Оверни, как твой приятель Шамфор. Позволь же мне начать с денег. Возможно ли, чтобы у нас опять их не было, когда?..
– Когда, – перебил Мирабо с громким смехом, – несколько дней тому назад у нас была их целая куча, потому что ты не только ласточка, принесшая весну сюда, к Мирабо, но и сказочная ласточка, нанесшая ему золотые яички. Да, мое дитя, все твои драгоценности, великодушно нам предоставленные, уже исчезли. По твоему приказанию я наложил свою разбойническую руку на хранившиеся в твоей шкатулке кольца, браслеты и драгоценные камни и продал все. А это были, вероятно, дорогие для тебя по воспоминаниям вещи! И ту довольно значительную сумму, без сомнения, сбереженные тобою карманные деньги, которую ты мне вручила, я тоже пустил по тому гибельному пути, по которому должны идти все деньги Мирабо. Не ужасно ли это?
В первую минуту Генриетта громко вздохнула, с изумлением смотря ему в глаза, но вслед за тем от души расхохоталась.
– В самом деле, – продолжал Мирабо с трагическим выражением, – деньги никак у меня не держатся. Это болезнь, которой я страдаю всю жизнь. Только я дотронусь до них, как они разлетаются на все четыре стороны. У меня нет и никогда не будет денег, хотя бы ты приворожила к ногам моим золотые горы.
В привычках графа Мирабо было вечно и всем жаловаться на свои денежные дела, но при этом вместе с огорчением проглядывало что-то столь забавно-равнодушное, что друзья его, желая возвратить ему вполне хорошее расположение духа, охотно приходили к нему на помощь.
В эту минуту Генриетта тоже чувствовала, что ей следует как-нибудь облегчить настоящее затруднительное положение, на которое он счел нужным жаловаться, что так мало согласовалось с его обычным достоинством и величием.
Она сняла с себя золотой, унизанный жемчугом медальон с портретом отца и, даже не взглянув на него, подала его Мирабо, значительно смотря и кивая ему головой.
Как ни готов был Мирабо принять от своих друзей всякую жертву, без рассуждений и не придавая никакого значения, однако он взял медальон лишь затем, чтобы с нежными упреками за ее легкомыслие опять надеть ей его и спрятать на ее груди.
– Счастлив тот, – сказал он, целуя ее, – кто может хранить на сердце память о своем отце. Знаменитый Ван-Гарен был высокой чести человек, и мы в нашем союзе будем достойно хранить его воспоминание!
– Ну, так я придумала что-то другое! – воскликнула Генриетта, весело хлопая в ладоши. – Я ведь должна еще получить наследство в Брюсселе, и как я глупа, что до сих пор об этом не подумала! Живший там родственник моего отца упомянул меня в своем завещании. Но это всего четыре тысячи франков, Мирабо! Только на днях я получила уведомление об этом, и ты не должен удивляться, что при всем со мною происшедшем это ускользнуло из моей памяти. Документ должен быть в шкатулке, которую я передала тебе с моими вещами.
– Быть может, при моей небрежности я выбросил его, – сказал Мирабо, поспешно направляясь к письменному столу, где была спрятана шкатулка. Бумага оказалась в ней. Мирабо с любопытством развернул ее, а Генриетта пристально смотрела на него, желая прочесть удовольствие на его лице.
– Хорошо, – сказал Мирабо равнодушно, – деньги, несомненно, твои и могут быть тотчас же получены. Об этом мы позаботимся, когда приедем в Брюссель, по дороге в Лондон, хотя это несколько замедлит наше путешествие, которое следует совершить как можно быстрее, главным образом, из-за тебя, прелестная беглянка! Но мы это устроим. Теперь нужно только достать денег на дорогу от Парижа до Брюсселя, и это уже пустяки. Придет Шамфор, и мы увидим, как это сделать. Через него я спикирую на кошелек госпожи Гельвециус, которая охотно и щедро снабжает своих друзей из своей всегда полной кассы.
В эту минуту послышались два легких удара в дверь, и Мирабо, узнав по ним своего друга, громко закричал: «Войди, Шамфор! Здравствуй, Шамфор!»
Последний быстро вошел, и друзья сердечно обнялись.
– Итак, теперь мы опять будем вместе в Париже, мой друг и наставник? – спрашивал Мирабо, нежно его обнимая, чего он не делал ни с одним из остальных своих друзей. – Я так и думал, что при твоей дивной подвижности и непокое ты не останешься надолго среди отейльской философской идиллии.
Тут Шамфор заметил Генриетту, покрасневшую и желавшую удалиться, но Мирабо, удержав ее, представил своему приятелю.
– Вот она, Генриетта, – торжественно произнес Мирабо, – обладающая неземным мужеством разделять со мною жизнь и судьбу! Ты видишь, как она прекрасна, и найдешь, конечно, что все описания в моих письмах остались далеко позади истины. Одной своей красотой она могла бы завоевать место на королевском троне, если бы не предпочла разделять неверную участь беспокойного Мирабо. Но она, кроме того, сама доброта, нежность, кротость и принадлежит к тем возвышенным, правдивым душам, возле которых чувствуешь себя под верной охраной, как у себя на родине. Я не стою ее, но, клянусь тебе, сделаюсь достойным обладать ею!
Генриетта быстро подошла к нему и, держа руку перед его губами, робко упрашивала прекратить похвалы. Затем, дружески простясь с Шамфором, любезно ее приветствовавшим, поспешно удалилась в соседнюю комнату.
– Можно позавидовать твоему таланту создавать себе счастье! – сказал Шамфор, следя долго глазами за исчезающим образом Генриетты.
– Моя же жизнь – вся из противоречий и контрастов, – продолжал он с некоторою горечью. – Одно из таких противоречий привело меня опять в Париж. Маркиз де Водрейль пригласил меня жить у него, предоставив мне, единственно из всем известной любви к литературе и искусству и не ставя никаких условий, роскошное убежище в своем доме.
– Так что отныне мой друг Шамфор находится на Бурбон-ской улице, в великолепном отеле «Водрейль»? – сказал Мирабо, улыбаясь. – Там он может на просторе изучать высший свет, что, конечно, принесет пользу всей нашей эпохе.
– Да, все у меня одни противоречия, – повторил Шамфор, – но об этом в другой раз. Теперь вот в чем дело. Маркиз де Водрейль поручил мне передать тебе этот пригласительный билет. Завтра вечером, в его отеле, будет представлена «Свадьба Фигаро» Бомарше, и он придает большое значение твоему присутствию. Будет много приближенных ко двору лиц, так как задача в том, чтобы все-таки добиться благоволения короля и королевы для этой комедии, имевшей еще в рукописи столь странную судьбу. Друзья автора, в числе коих, как известно, и маркиз де Водрейль, хотят ловким образом получить завтра разрешение на публичное представление пьесы.
Взяв пригласительный билет, Мирабо долго молча и задумчиво рассматривал его, по-видимому, что-то соображая, потом сказал:
– Принимаю приглашение де Водрейль, хотя, как ты знаешь, я нимало не интересуюсь комедией спекулянта Бомарше. Все, что он делает, он делает для денег, и у меня не может быть симпатии и желанья причислить к нашим человека, делающего из движения вперед и свободы дело наживы. Так он представился передовым человеком американцам, а что же он сделал для американской свободы? Ничего, кроме поставки оружия новым республиканцам в их первых походах, причем нажил невероятные суммы, заставляя не только платить себе страшные цены, но и поставляя негодные ружья, плохие сапоги и шапки. А потом, когда американцы, обвиняя его в этом, стали сами заниматься военными поставками, он имел удовольствие с битком набитыми карманами торжествовать в общественном мнении, как мученик свободы. О, я хорошо знаю этого патрона! И комедия его – такой же гешефт с общественным мнением. Каким путем этот Бомарше дошел до того, чтобы всю испорченность и ложь нашего общества сделать предметом веселой комедии? Если когда-нибудь, подобно американцам, мы станем сражаться за свободу, то Бомарше будет всегда лишь Фигаро нашей революции, то есть над всеми смеющимся и из всего извлекающим свою выгоду плутом!
– Ненависть твоя к Бомарше мне знакома, – возразил Шамфор, – но если не для самой комедии, то приходи, чтобы приятно провести вечер, в чем я тебе ручаюсь. Друзья Бомарше с Monsieur, братом короля во главе, хотят непременно добиться разрешения пьесы, запрещенной, к неудовольствию публики, королем, когда первое представление было уже объявлено на театре «Menus-Plaisirs». Готовится какая-то интрига, и я доволен, чуя в воздухе что-то неладное. Что ты об этом думаешь, Мирабо?
– Нос – важное орудие хорошего политика, – ответил Мирабо, – и ты знаешь, что я всегда отдавал справедливость твоему. Но если завтра я буду в отеле «Водрейль», то, лишь потому, что хочу провести там свою собственную интригу, для которой мне нужна твоя помощь, Шамфор. Ты сейчас видел мою прелестную газель, скрывшуюся не только от твоих восхищенных глаз, но и от полиции, ежеминутно могущей обрушиться на нее, о чем я уже подробно писал тебе. Теперь же я решил увезти ее в Лондон на некоторое время и, натурализовав ее англичанкой, привезти обратно и жить с нею здесь. Но не вижу способа, как мне ее вывести отсюда из дому. Внизу целый день прогуливаются агенты полиции, они немедленно вырвут у меня мою крошку. В эту минуту, благодаря твоему приглашению к Водрейлю, у меня родился план. Без сомнения, маркиз предоставляет в твое распоряжение и экипаж, как это подобает покровителю всех муз, считающему за честь иметь их у себя в доме.
– Конечно, – возразил Шамфор, – он позволяет поэту разъезжать в великолепной карете маркиза, думая, что от этого маркиз делается немного поэтом.
– Вот и хорошо, – сказал Мирабо, – пусть же карета маркиза сослужит службу и моей юной любви. Слушай, каков мой план. Завтра вечером, окончив здесь все приготовления для отъезда, я прибуду в отель маркиза де Водрейль заблаговременно. Ты же, попозже, пожертвовав мне одним действием комедии, приедешь сюда, ко мне, в карете маркиза. Генриетта будет тебя ждать, переодетая, для отвода глаз полицейских, в костюм крестьянской девушки, няни при маленьком Коко, и с ребенком на руках, быстро сядет с тобою в экипаж. Полиция заметит все это, но не заподозрит ничего или не посмеет простирать свои розыски на экипаж с гербом и ливреей маркиза де Водрейль. Ты приезжаешь с моей подругой и ребенком в отель «Водрейль», они остаются в экипаже, которому ты приказываешь на время постоять в сарае. При первой возможности я оставляю зал, а ты своим авторитетом в отеле должен устроить так, чтоб я мог воспользоваться этим же экипажем до Монмартра, где меня будут ждать мои люди и дорожная карета, и тогда уже, надеюсь, мы достигнем без приключений дороги в Брюссель, куда я должен направиться прежде всего.
Подумав с минуту, Шамфор кивнул головой своему другу и сказал:
– Ты можешь, как всегда, положиться на меня, Мирабо! Устрой все, а я выполню твои указания самым точным образом. О, я искренне радуюсь своему участию в интриге, да еще сыгранной с этой враждебной народу и бесстыдной парижской полицией. Но ради большей безопасности я бы советовал запастись для Генриетты паспортом на чужое имя. Для этого тоже распоряжайся мною, если моя помощь может пригодиться.
– Я и хотел отдать это дело в твои дружеские руки, – ответил Мирабо. – Было бы отлично, если бы я уже здесь, в Париже, мог получить паспорт для Генриетты как для природной англичанки. При твоих связях в Париже и общении со знатными и сильными ты легко мог бы нам устроить это. Мне кажется, ты свой человек и в отеле английского посланника, герцога Дорсэ? Вообще, твое влияние громадно, дорогой Шамфор, и мы счастливы, найдя в тебе защитника нашей любви!
– Шамфор – покровитель влюбленных! – воскликнул Шамфор с грустной улыбкой. – Однако я могу взять на себя это поручение. В доме маркиза де Водрейль есть несколько бонн-англичанок, и никого не удивит, если для возвращения одной из них в Лондон я поручу управляющему отелем исходатайствовать паспорт. О том же, чтобы он был выдан без затруднения, на любое имя, я позабочусь сам в канцелярии посольства. Реши только, как с этой минуты должна называться твоя прекрасная Генриетта.
– Об этом нам следует спросить ее самое, – возразил Мирабо, подходя к комнате, в которой Генриетта скрывалась.
На его громкий стук и зов у двери она сейчас же вышла с выражением ужаса на своем прелестном лице. Но Мирабо успокоил ее. Речь лишь в том, чтобы ей, которая есть сама правда, дать вымышленное имя, для ограждения ее на будущее время от всяких преследований.
Генриетта смотрела на него сначала с улыбкой и недоверием; но затем лицо ее на минуту омрачилось, и она медленно, но серьезно покачала головой.
– Я тебя понимаю, – воскликнул Мирабо, – ты не хочешь и не можешь лгать, потому что ты великая, честная душа! Но ты не должна относиться к этому слишком строго, ибо, что такое имя человека, как не домино, в котором он допускается в зал собрания. Случается, что для забавы домино переворачивают и надевают наизнанку. Старых же друзей, всегда во всех видах узнающих нас, эта новая тайна только сильнее располагает к нам.
– Ну, если ты хочешь перевернуть мое имя, то оно будет Нэра! – воскликнула Генриетта, снова оживляясь и глядя на него счастливыми дружескими глазами. – Когда, бывало в детстве, играя, мы изменяли наши имена, я часто называлась Генриеттой Нэра.
– Браво! – вскричал Мирабо, целуя ее руки. – С этой минуты твое имя – госпожа Нэра. Генриетта Гарен исчезла. Пусть же эта анаграмма ваших детских игр будет счастливым предзнаменованием нашего союза и нашей будущности! Друг Шамфор добудет английский паспорт на это имя.
– Примите же, госпожа Нэра, мои наилучшие пожелания по поводу этого крещения, – сказал Шамфор, торжественно подходя к ней и подавая руку, которую она дружески пожала, сказав:
– Генриетта Нэра останется, верьте мне, тем же, чем была Генриетта Гарен: простушкой, подчиненной лишь своему сердцу теперь и всегда!
– Итак мы обо всем отлично переговорили с нашим дорогим Шамфором, – начал вновь Мирабо. – Остается прибегнуть к его помощи по очень щекотливому вопросу; Шамфор уже знает, в чем дело, судя по его злорадной, дьявольской улыбке, блуждающей на его лице всякий раз, когда ему удается подсмотреть какую-нибудь слабость бедного человеческого сердца.
– Да, я знаю, чего ты хочешь или, вернее, чего у тебя нет, – засмеялся Шамфор. – Признания твоего сердца я выслушивал не раз и бывал при этом всегда счастлив, чем при совещаниях о твоем кошельке, на сердечную слабость которого ты, вероятно, намекаешь в эту минуту.
– Правильно, – сказал Мирабо, – ты угадал! Я опять в том положении, когда все существование человека выражается признанием «у меня нет денег!»
При этих объяснениях Генриетта заволновалась. Щеки ее зарделись, как бы от величайшего стыда, а глаза опустились в землю.
– Это милое дитя не может вынести разговора о денежных затруднениях, – сказал Мирабо, забавляясь ее смущением. – Краснеет, как если бы это был позор для нас всех и для целого света, что у меня нет денег.
– Напротив того, госпожа Нэра, это для него большая честь, что у него денег нет, – сказал Шамфор, подходя к ней ближе. – Граф Мирабо, с вечно расстроенными финансами, и в этом отношении нормальный человек своего времени. Мы уже по одному тому надеемся, что Мирабо появится когда-нибудь спасителем Франции, что у него, как и у Франции, нет денег и что с пустыми карманами он может успешнее обдумывать устройство прекрасного будущего Франции.
– Ты слишком много философствуешь на счет моего пустого кошелька, – сказал Мирабо немного озабоченно. – Если не можешь сегодня помочь мне или посоветовать что-нибудь, скажи прямо. Нам нужны деньги на дорогу только до Брюсселя, потому что там нас выручит ожидающее наследство. Но и до Брюсселя мне нужно немало. Ты знаешь, что без прислуги и секретаря я обойтись не могу и должен их взять с собой. Ну, так что же, Шамфор, есть у тебя деньги?
– Наша добрая мать, госпожа Гельвециус, щедро наделила меня ими при прощании, полагая, что в высшем свете мне необходимо иметь приличные карманные деньги, – возразил Шамфор. – Из них у меня еще есть, кажется, франков восемьсот, и ты отлично сделаешь, Мирабо, взяв их, потому что мне они только мешают приятно мечтать, заставляя думать о том, что бы мне на них купить. Живя в отеле «Водрейль», в деньгах я не нуждаюсь; там я на полном иждивении маркиза; для некоторых же мелких расходов мне довольно получаемой мною, благодаря прекрасной королеве Марии-Антуанетте, пенсии. К тому же на днях я выпускаю в свет собрание своих драматических произведений и надеюсь получить за них хороший гонорар. Ну, а теперь прощайте, дети мои! Завтра утром принесу вам английский паспорт и деньги. Все прочее, о чем мы говорили, остается без изменений.
Мирабо обнял друга с выражением живейшей благодарности. Шамфор собрался уходить, но опять вернулся и, вынимая из кармана сложенные листки, подал их Мирабо, говоря:
– Чуть не забыл передать тебе эти бумаги. Это обещанные прибавления к твоему труду о цинциннатском ордене, частью мои, частью доктора Бенджамина Франклина, который просил, кстати, кланяться тебе. Ты можешь воспользоваться этими заметками или нет – как тебе угодно. Кондорсэ и Кабанис извиняются пока. Они работают над математикой и физикой, не будучи еще в состоянии делать политику. Кабанис с кровавым потом трудится над открытием связи между физическими и нравственными законами.
После ухода Шамфора Мирабо, обращаясь к своей подруге, стоявшей возле него с радостной улыбкой, сказал:
– Ну, Генриетта, нам надо уже сегодня много приготовить для отъезда. А потому поторопись, дитя мое! Мы должны взять с собою в Лондон все наше движимое имущество. Всего же важнее хорошенько закутать и собрать нашего Коко, с которым мы никогда не расстанемся. Маленький мужчина предпринимает свое первое морское путешествие, и надо знать, все ли у него есть для этого. Ты ведь приняла на себя роль его Провидения, так позаботься же обо всем.
Генриетта кивнула головой в знак согласия и хотела уже выйти, чтобы поспешно приняться за исполнение его поручений, как вдруг, будто что-то вспомнив, остановилась в нерешительности посреди комнаты, потом, быстро подойдя к Мирабо и ласкаясь к нему, сказала тихо:
– Ты, конечно, мог бы скорее жить без меня, чем без твоего маленького Николая. Не правда ли, он всех ближе твоему сердцу? И я буду беречь его поэтому, как зеницу ока. Однако тайна его рождения часто мучит меня. Ты обещал разрешить мне эту загадку, но не сдержал слова, Мирабо.
– Ну, так я теперь скажу это тебе, – сказал Мирабо как-то торжественно строго. – Герцогиня де Ламбаль – мать ребенка. Тайно родив его, она отдала его под мою защиту и на мое попечение, и я поклялся ей, что никогда и нигде не расстанусь с ним. Эту клятву, которую намерен свято исполнить, я произнес, будучи обязан герцогине и желая оказать услугу ей, поддержавшей меня в самую тяжкую минуту моей жизни.
– И только по этой причине ты принял Коко? – спрашивала Генриетта, недоверчиво глядя на него. – Других отношений к тебе ребенок не имеет?
– Тише, тише! – воскликнул Мирабо, закрывая ей рот рукой. – Я никогда тебе не назову отца ребенка, но со временем расскажу тебе об этом целую историю.
Генриетту, по-видимому, это не удовлетворило, но она не посмела яснее предложить мучившего ее вопроса и, задумчивая, медленно вышла из комнаты.
Мирабо, улыбаясь, смотрел с немым восторгом вслед за нежным, юным созданием, удалявшимся с тревожными мыслями, прямо к нему относящимися, и так сильно желавшим узнать, кто имел права на его сердце.