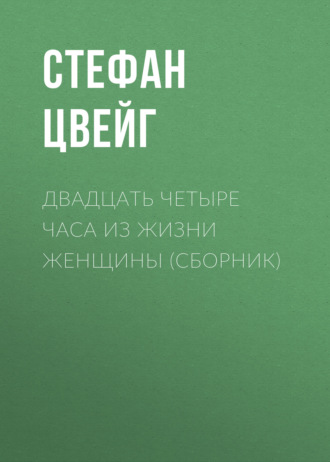
Стефан Цвейг
Двадцать четыре часа из жизни женщины (сборник)
Так сидел я, дотоле свободный человек, в томительном угнетении, все заново пересчитывая красные квадраты на скатерти, пока наконец опять не появился кельнер. Я подозвал его, расплатился, встал, оставил кружку почти полной, вежливо поклонился. Мне ответили приветливыми удивленными поклонами: я знал, не оглядываясь, что теперь, чуть только я повернулся к ним спиной, к ним вернутся жизнерадостность и веселье, что круг задушевной беседы сомкнется, коль скоро исторгнуто чужеродное тело.
Снова я кинулся, но только с еще большей жадностью, горячностью и отчаянием, в людской водоворот. Толкотня тем временем разредилась под деревьями, которые черными силуэтами поднимались в небо, и ярко освещенный круг карусели не так уже густо кишел людьми; движение шло в обратную сторону, к краям площади. Кипящий, глубокий, как бы дышащий гул толпы дробился теперь на множество мелких шумов, сразу обрывавшихся всякий раз, когда с какой-нибудь стороны опять начинала грохотать свирепая музыка, словно стараясь удержать бегущих. Другого рода фигуры выплыли теперь после воскресного гулянья семьей. Теперь стали попадаться крикливые пьяные; из боковых аллей развинченной и все же крадущейся походкой начали выходить оборванцы: за тот час, который я провел, словно пригвожденный, у чужого стола, этот странный мир приобрел более порочный характер. Но именно эта фосфоресцирующая атмосфера наглости и опасности почему-то была мне больше по душе, чем прежняя, празднично-мещанская. Возбужденный инстинкт чуял в ней то же похотливое напряжение. В этих шляющихся подозрительных фигурах, в этих отбросах общества я ощущал свое отражение под каким-то углом: ведь и они здесь беспокойно ожидали какого-то мерцающего приключения, быстрого возбуждения; и даже им, этим проходимцам, завидовал я, глядя на их свободное, развязное блуждание, потому что сам стоял, прислонившись к одному из столбов карусели, стараясь исторгнуть из себя гнет молчания, пытку своего одиночества и будучи все же неспособен ни на одно движение, ни на один возглас. Я только стоял и пялил глаза на площадь, освещенную мигающим отражением огней, стоял и устремлял глаза во мрак со своего островка света, с глупым ожиданием глядя на каждого человека, который на мгновение поворачивался в мою сторону, привлеченный яркими лучами. Но все взоры холодно скользили мимо меня. Никто не хотел меня, никто не освобождал меня.
Я знаю, безумием было бы думать, будто можно кому-нибудь описать, а объяснить и подавно, как я, культурный, изящный, светский человек, богатый, независимый, связанный дружбой с самыми выдающимися жителями столичного города, мог ночью целый час простоять у столба надтреснуто визжавшей, неустанно вертевшейся карусели, пропуская мимо себя двадцать, сорок, сто раз одни и те же идиотские лошадиные морды из крашеного дерева, под звуки одних и тех же спотыкавшихся полек и ползучих вальсов, и не трогаться с места с затаенным упрямством, с таинственной решимостью подчинить судьбу своей воле. Я знаю, что действовал сумасбродно в тот час; но в этом сумасбродном столбняке был такой напор чувства, такое стальное напряжение всех мышц, какое испытывают обычно люди разве что только при падении в пропасть, непосредственно перед смертью; вся моя пусто промчавшаяся жизнь вдруг хлынула обратно и залила меня до горла. И насколько я терзался своим бессмысленным, сумасбродным решением оставаться, не трогаться с места, пока меня не освободит какой-нибудь взгляд, какое-нибудь человеческое слово, настолько же я наслаждался своими терзаниями. Что-то я искупал этим стоянием у столба, не столько эту кражу, сколько тупость, вялость, пустоту своей прежней жизни; и я поклялся себе уйти не раньше чем какой-нибудь знак не будет мне дан, чем рок не отпустит меня.
Тем временем ночь надвигалась. Один за другим гасли огни в балаганах, и всякий раз тогда надвигался мрак, проглатывая на траве пятно света; все уединеннее становился светлый островок, на котором я стоял, и я с трепетом взглянул на часы. Еще четверть часа – и размалеванные деревянные кони остановятся, красные и зеленые лампы погаснут у них на глупых лбах, умолкнет гудящий орган. Тогда я буду весь поглощен мраком, буду стоять совсем один в тихо шелестящей ночи, буду всеми отвержен, всеми покинут. Все тревожнее поглядывал я на темную площадь, по которой теперь уже только изредка пробегала какая-нибудь чета или, шатаясь, проходили несколько пьяных парней. Но в конце площади, наискосок, еще трепетала прячущаяся жизнь, беспокойно и раздражающе. Временами раздавался тихий свист или щелканье, когда проходили несколько мужчин. И когда они сворачивали в мрак, привлеченные зовом, то оттуда слышались шепчущие, звонкие женские голоса, и время от времени ветер доносил обрывки громкого смеха. И постепенно фигуры начали выступать наглее из мрака на освещенную часть площади, чтобы тотчас же нырнуть опять во тьму, чуть только в лучах фонаря мелькала остроконечная каска полицейского. Но едва лишь он удалялся, совершая обход, как призрачные тени появлялись опять, и мне уже были теперь отчетливо видны их очертания, так близко решались они подходить к свету, – последняя тина этого ночного мира, накипь, оставленная пронесшимся людским потоком: несколько проституток, из числа самых убогих и отверженных, у которых нет своей постели, которые днем спят на тюфяке, а по ночам неустанно бродят, за мелкую серебряную монету отдавая любому где-то здесь, в темноте, свои истасканные, опозоренные, тощие тела, – выслеживаемые полицией, толкаемые голодом или каким-нибудь проходимцем, подстерегающие добычу и подстерегаемые сами. Как голодные собаки, выползали они постепенно на свет в поисках какого-нибудь запоздалого прохожего, чтобы выманить у него одну или две кроны, купить себе на эти деньги вина в кабаке и поддержать тускло мерцавший огарок жизни, которому и так уже вскоре предстояло догореть в больнице или тюрьме.
Это были подонки, последняя жижа чувственности, высоко вскипевшей в праздничной толпе, – с беспредельным омерзением смотрел я на эти голодные фигуры, выходившие из мглы. Но и в этом омерзении была какая-то волшебная услада, оттого что даже из этого грязнейшего зеркала снова глянуло на меня забытое и смутно пережитое: это была глубокая трясина, через которую я прошел давно, много лет тому назад, и которая ныне опять заискрилась у меня в сознании фосфоресцирующим светом. Странно: чего только не открывала мне эта фантастическая ночь! Так глубоко разоблачила она мою замкнутую душу, что наружу вышли самые темные стороны моего прошлого, самые сокровенные мои порывы! Смутное чувство всплыло из засыпанных глубин моих отроческих лет, когда на таких фигурах останавливался робкий, любопытством привлеченный и все же малодушно-растерянный взгляд, – воспоминание о том часе, когда по шаткой мокрой лестнице я в первый раз взобрался к такому созданию, – и вдруг, как будто молния разверзла ночное небо, я увидел четко каждую подробность этого забытого часа, плоскую олеографию над постелью, амулет, который она носила на шее, ощущал всеми фибрами то, что было тогда, смутную духоту, отвращение и первую мальчишескую гордость. Все это сразу прокатилось у меня по телу. Беспредельное ясновидение вдруг снизошло на меня, и – как мне передать эту беспредельность? – я внезапно понял все, что вызывало во мне такую жгучую жалость и связывало меня с этими существами как раз потому, что они были последним шлаком жизни, и мой разожженный преступлением инстинкт постигал это голодное блуждание, столь сходное с моим в эту фантастическую ночь, эту порочную открытость всякому прикосновению, всякой чужой, случайно встретившейся похоти. Меня повлекло туда словно магнитом, бумажник с украденными деньгами вдруг жарко запылал у меня на груди, когда я почувствовал наконец присутствие существ, людей – нечто мягкое, дышащее, говорящее, желавшее чего-то от других существ, быть может, и от меня, от того, кто только и ждал возможности отдать себя, кто сгорал от неистовой тяги к людям. И сразу я понял то, что влечет мужчин к таким созданиям, понял, что это редко бывает всего лишь кипением крови, жгущим зудом, а чаще всего – только боязнью одиночества, чудовищной разъединенностью, обычно громоздящейся между нами и впервые открывшейся сегодня моему воспаленному сознанию. Я вспомнил, когда в последний раз смутно испытал такое же чувство: в Англии это было, в Манчестере, в одном из тех стальных городов, которые гудят под тусклым небом, как подземная железная дорога, и в то же время обдают человека стужей одиночества, проникающей в поры тела до самой крови. Три недели прожил я там у родственников, по вечерам бродя всегда один по барам и клубам и каждый раз заходя в сверкающий мюзик-холл, только чтобы ощутить немного человеческого тепла. И там я встретился как-то вечером с таким же созданием, чей уличный жаргон был мне почти непонятен, но вдруг очутился в какой-то комнате, пил смех из незнакомых уст, теплое тело было рядом с моим, по-земному близкое и мягкое. Внезапно растаял холодный, черный город, мрачная, гудящая область одиночества; какое-то существо, которого я не знал, которое стояло тут и поджидало всякого, кто приходил, растворяло меня; снова легко дышалось, в легкой ясности ощущалась жизнь посреди стальной тюрьмы. Для одиноких, для замкнутых в себе какой было усладой сознавать, чувствовать, что для их страха все же есть всегда прибежище, возможность крепко за него уцепиться, пусть бы даже оно было захватано многими руками, изъедено ядовитой ржавчиной. И это, как раз это, забыл я в убийственном своем одиночестве, из которого, пошатываясь, выкарабкивался в эту ночь, – что где-то, на последнем углу, всегда еще ждут эти последние создания, готовые принять всех отдающихся, дать отдохнуть в своем дыхании всем покинутым, охладить всякий жар, за жалкую плату, слишком ничтожную по сравнению с тем невероятным благом, каким является их вечная готовность, великий подарок их человеческого присутствия.
Подле меня опять загремел орган карусели. Это был последний тур; последними фанфарами огласил темноту кружащийся свет, возвещая переход воскресенья в тусклые будни. Но не было уже никого, лошади без наездников мчались в безумном своем круговращении, переутомленная кассирша уже собирала и пересчитывала дневную выручку, и мальчик подошел с крюком, собираясь после этого последнего тура спустить ставни над балаганом. Только я, один я все еще там стоял, прислонившись к столбу, и смотрел на пустынную площадь, где мелькали, как летучие мыши, только эти фигуры, ищущие, как и я, поджидающие, как и я, и все же отделенные от меня непроницаемой стеной отчужденности. Но теперь одна из них, по-видимому, заметила меня, потому что медленно пододвинулась. Совсем близко видел я ее из-под полуопущенных век: маленькое, кривое, рахитичное создание, без шляпы, в безвкусном нарядном платьице, из-под которого выглядывали стоптанные бальные туфли. Все это было, вероятно, куплено по частям у старьевщика и с тех пор вылиняло, смялось под дождем или при каком-нибудь грязном похождении в траве. Она подкралась ближе, остановилась передо мною, бросая на меня острый, как крючок на удочке, взгляд и в заманивающей улыбке приоткрыв гнилые зубы. У меня замерло дыхание. Я не мог шевельнуться, не мог смотреть на нее – и все же не мог вырваться: как в гипнозе, ощущал, что вокруг меня алчно бродит человек, что кому-то я нужен, что наконец-то я могу отшвырнуть от себя одним словом, одним только жестом это мерзкое одиночество, эту мучительную отверженность. Но я не был в состоянии шевельнуться, деревянный, как балка, к которой я прислонился, и в каком-то сладострастном обмороке чувствовал только все время – между тем как музыка карусели утомленно замерла – это близкое присутствие, эту волю, домогавшуюся меня, и я на мгновение закрыл глаза, чтобы во всей полноте ощутить, как меня заливает это магнитное, исходящее от чего-то человеческого, из мирового мрака исходящее притяжение.
Карусель остановилась, мелодия вальса оборвалась на последнем, стонущем звуке. Я открыл глаза и успел еще заметить, как фигура, стоявшая подле меня, отвернулась. Ей, по-видимому, надоело чего-то ждать от деревянного истукана. Я испугался. Мне стало вдруг очень холодно. Отчего дал я ей уйти, единственному человеку в этой фантастической ночи, подошедшему ко мне? Позади погасали огни, с треском опускались ставни. Конец.
И вдруг, – ах, как изобразить самому себе эту горячую, эту внезапно вскипевшую пену? – вдруг – это исторглось так внезапно, так горячо, так багрово, как если бы у меня разорвалась артерия в груди, – вдруг из меня, гордого, высокомерного, совершенно закостеневшего в холодном, светском достоинстве человека, вырвалось, как немая молитва, как судорога, как крик, ребячливое и все же столь для меня чудовищное желание, чтобы эта жалкая, грязная, рахитичная проститутка еще хоть раз оглянулась и дала мне возможность с нею заговорить. Ибо не гордость мешала мне пойти за нею, – гордость моя была раздавлена, растоптана, смыта совсем новыми чувствами, – но слабость и беспомощность. И в таком состоянии стоял я там, в трепете и смятении, один, у позорного столба темноты, ожидая, как не ожидал никогда с отроческих лет, как только один раз вечером стоял у окна, когда одна чужая женщина начала медленно раздеваться и все медлила и задерживала, в неведении, свое обнажение, – я стоял, взывая к Богу каким-то мне самому незнакомым голосом о чуде, о том, чтобы эта искалеченная тварь, эта алчущая человеческая падаль еще раз повторила свою попытку, еще раз обратила в мою сторону взгляд.
И – она обернулась. Еще один раз, совершенно машинально, она оглянулась. Но в глазах у меня, по-видимому, так сильно вспыхнуло мое напряженное чувство, что она остановилась, наблюдая за мной. Она повернулась ко мне, поглядела на меня сквозь мрак и приглашающе кивнула головой в сторону погруженного в темноту края площади. И наконец я почувствовал, как ужасное оцепенение начало меня покидать. Я снова мог шевелиться и утвердительно кивнул головой.
Незримый договор был заключен. Она пошла вперед по темной площади, время от времени оглядываясь, иду ли я за ней. И я шел за нею: свинец у меня свалился с ног, я мог ими двигать опять. Непреодолимо влекло меня за нею. Я шел не сознательно, а как бы плыл за нею следом, на буксире у таинственной силы. Во мраке аллеи, между балаганами, она замедлила шаги. Теперь она стояла подле меня.
Несколько секунд она ко мне присматривалась, испытующе и недоверчиво: что-то внушало ей неуверенность. Очевидно, мое странно робкое поведение, контраст между моей элегантностью и местом действия были ей чем-то подозрительны. Она несколько раз озиралась по сторонам, колеблясь. Потом сказала, указывая в глубь аллеи, где было черно, как в шахте:
– Пойдем туда. За цирком совсем темно.
Яне мог ответить. Невыразимая гнусность этого сближения ошеломила меня. Охотнее всего я вырвался бы как-нибудь, откупился бы монетой или какой-нибудь отговоркой, но моя воля уже не имела власти надо мной. Чувство у меня было такое, какое испытываешь, когда мчишься в санях по отвесному снежному скату, когда смертельный страх как-то сладострастно сочетается с опьянением от быстроты и когда, вместо того чтобы тормозить, отдаешься падению с хмельным и в то же время сознательным безволием. Я уже не мог повернуть обратно и, быть может, совсем и не хотел повернуть, и, когда она теперь доверчиво прильнула ко мне, я невольно взял ее под руку. Это была совсем худая рука не столько женщины, сколько недоразвитого, болезненного ребенка, и едва лишь я прощупал ее сквозь тонкое пальтецо, как меня охватила чрезвычайно мягкая, струящаяся жалость к этому несчастному комочку жизни, который бросила мне под ноги эта ночь. И невольно пальцы мои приласкали эти слабые, хрупкие косточки так целомудренно, так благоговейно, как я не прикасался к женщине еще никогда.
Мы пересекли тускло озаренную аллею и вошли в небольшую чащу, где вершины густолиственных деревьев не давали выхода душной, дурно пахнувшей мгле. В этот миг я заметил, хотя теперь уже с трудом различимы были очертания предметов, что она, держась за мою руку, очень осторожно оглянулась, и несколькими шагами дальше – еще раз. И странно: между тем как я в каком-то оцепенении соскальзывал в пропасть, сознание мое все же было совершенно ясно и остро.
С ясновидением, от которого ничто не скрывается, которое постигает каждое движение, я заметил, что сзади, вдоль края дороги, нечто скользит за нами следом, и мне как будто послышались крадущиеся шаги. И внезапно, – как если бы молния белой вспышкой озарила долину, – я угадал, я понял все: что меня тут заманивают в западню, что сутенеры этой женщины крадутся за нами и что она вела меня в темноте в какое-то условленное место, где мне предстояло стать их добычей. Со сверхъестественной ясностью, какой обладают только зажатые между жизнью и смертью мгновения, я видел все, взвешивал все возможности. Было еще время спастись, главная аллея должна была находиться неподалеку, потому что до меня доносился шум пробегавшего по ней электрического трамвая; крикнув или свистнув, я мог бы привлечь сюда людей; в остро очерченных образах возникали в мозгу все возможности бегства, спасения.
Но странно: это устрашающее постижение не охладило, а еще больше разгорячило меня. Ныне, в трезвую минуту, при ясном свете осеннего дня, я не в силах и сам себе как следует объяснить нелепость моего поведения: я понял, понял сразу всеми фибрами своего существа, что я бесцельно подвергаю себя опасности, но это предчувствие, как разжиженное безумие, струилось у меня по нервам. Я предвидел нечто мерзкое, может быть – грозящее смертью, я дрожал от гадливости при мысли, что меня здесь толкают на какое-то преступление, в подлое, грязное приключение, но при том опьянении жизнью, какое я испытывал тогда впервые, возможности которого никогда не предполагал, самая смерть и та представлялась мне предметом мрачного любопытства. Какое-то чувство – стыдно ли мне было обнаружить трусость, или это слабость была? – толкал о меня вперед. Меня прельщала возможность спуститься в самую клоаку жизни, за один день проиграть и промотать все свое прошлое; дерзновенная похоть духа примешивалась к низменной похоти этого приключения. И хотя я всеми своими нервами предчувствовал опасность, ясно постигал ее своими чувствами, своим рассудком, я все же углублялся в чащу, под руку с этой грязной проституткой, которая меня физически отталкивала сильнее, чем привлекала, и которая, заведомо для меня, относилась ко мне только как к добыче для своих сообщников. Но я не мог отступить. Инерция преступности, днем сообщившаяся мне на ипподроме, влекла меня все глубже и глубже вниз. И я только сильнее ощущал вихревой, ошеломляющий дурман падения в новые бездны и, быть может, в последнюю: в смерть.
Пройдя еще несколько шагов, она остановилась. Опять ее взгляд неуверенно заскользил вокруг. Потом она взглянула на меня выжидательно:
– А что ты мне подаришь?
Ах вот что! Об этом я забыл. Но этот вопрос не протрезвил меня. Напротив. Я ведь так рад был возможности дарить, отдавать, расточать себя. Я порывисто опустил руку в карман, высыпал ей на открытую ладонь все серебро и несколько смятых кредиток. И тут случилось нечто до того поразительное, что еще и теперь у меня кровь бежит быстрее в жилах, когда я думаю об этом: было ли это жалкое создание озадачено размером платы, – обычно она за грязную службу свою получала только гроши, – или было нечто непривычное, нечто новое в том, как радостно, быстро, почти осчастливленно подарил я ей эти деньги, – но только она подалась назад, и сквозь густую, дурно пахнувшую мглу я почувствовал, как ее взгляд с крайним изумлением искал моего. И я испытал наконец то, чего мне так долго в этот вечер недоставало: кто-то искал меня, впервые я жил для кого-то в этом мире. И что ко мне потянулось как раз это отверженное существо, носившее, как товар, даже не глядя на покупателя сквозь мрак, свое несчастное, захватанное тело, что она подняла свои глаза на меня и во мне искала человека, – это усилило только мое поразительное опьянение, одновременно ясновидящее и бредовое, постигающее и растворенное в странном отупении. И ко мне уже прижалось это чуждое мне создание, но не ради исполнения оплаченной обязанности; мне почудилась в этом движении какая-то безотчетная признательность, женственная воля к сближению. Я осторожно взял ее руку, худую рахитичную руку, ощутил ее маленькое искалеченное тело и вдруг, поверх всего этого, увидел всю ее жизнь: снятый грязный угол в предместье, где она с утра до полудня спала среди кишевших вокруг нее чужих детей, ее сутенера, душившего ее, пьяных, которые в темноте, рыгая, бросались на нее, отделение больницы, куда ее приводили, аудиторию клиники, где ее поношенное, голое, больное тело показывали наглым молодым студентам как учебное пособие, и потом – конец в какой-нибудь богадельне, куда ее выгрузят из полицейской кареты и оставят, как собаку, околевать. Бесконечная жалость к ней совсем овладела мною, нечто теплое, что было нежностью, но не было чувственностью. Я не переставал гладить ее по худой, тонкой руке. И потом наклонился над нею и поцеловал ее.
В этот миг за моей спиной раздался шорох, треск ветвей. Я отскочил. И вот уже послышался грубый раскатистый смех мужчины:
– Так и есть! Так я и думал!
Прежде еще, чем я увидел их, я знал, кто они такие. Посреди своего глухого опьянения я ни на миг не забывал, что меня выслеживают; больше того: мое таинственное бодрствующее любопытство поджидало их. Теперь из кустов выдвинулась человеческая фигура, а за нею – вторая: опустившиеся парни с наглыми повадками. Опять послышался грубый смех:
– Экая гадость, заниматься тут свинством! А еще благородный господин! Но теперь мы с ним разделаемся!
Я стоял неподвижно. Кровь у меня стучала в висках. Я не испытывал страха. Я только ждал: что произойдет? Теперь я был наконец на дне, на самом дне низости. Теперь должна была наступить катастрофа, взрыв, конец, которому я полусознательно шел навстречу.
Женщина от меня отпрянула, но не к ним. Она как бы стояла между нами: по-видимому, подготовленное нападение было ей все же не совсем приятно. Парни же были раздосадованы моей неподвижностью. Они переглядывались – очевидно, ждали с моей стороны возражения, просьбы, испуга.
– Вот как, он молчит! – крикнул наконец один из них угрожающим тоном. А другой подошел ко мне и сказал повелительно:
– Идем в комиссариат!
Я все еще ничего не отвечал. Тогда первый положил мне руку на плечо и легко толкнул меня вперед.
– Марш! – сказал он.
Я пошел. Я не сопротивлялся, потому что не хотел сопротивляться: невероятная, низменная, опасная сторона положения ошеломляла меня. Голова у меня оставалась совершенно ясной; я знал, что парни эти должны были больше, чем я, бояться полиции, что я мог откупиться несколькими кронами, но я хотел испить до дна чашу мерзости, я вкушал гнусную унизительность положения в каком-то сознательном бреду Не спеша, совсем машинально пошел я в направлении, в каком они меня толкнули.
Но как раз то, что я так безмолвно, так послушно пошел по направлению к свету, привело, по-видимому, в замешательство парней. Они тихо перешептывались. Потом опять нарочито громко заговорили друг с другом.
– Шут с ним, отпусти его, – сказал один (он был маленького роста, с изъеденным оспой лицом), но другой ответил с напускной строгостью:
– Нет, брат, шалишь! Попробуй это сделать нищий вроде нас, которому жрать нечего, сейчас же его засадят под замок. Так нечего спуску давать такому благородному господину!
И я слышал каждое слово, слышал в каждом их слове неуклюжую просьбу о том, чтобы я начал с ними торговаться; преступник во мне понимал преступников в них, понимал, что они хотят пытать меня страхом, и я пытал их своей уступчивостью. Это была немая борьба между нами, и – о, как богата была эта ночь! – я чувствовал, посреди смертельной опасности, здесь, в смрадной чаще Пратера, в обществе проходимцев и проститутки, во второй раз за двенадцать часов почувствовал я неистовый азарт игры, но только дело касалось теперь высшей ставки, всего моего гражданского существования, самой жизни моей. И я предался этой чудовищной игре, искрящемуся волшебству случая, со всею напряженной, вплоть до разрыва сердца, силой моих трепетавших нервов.
– О, вот и полицейский! – послышался голос за моей спиной. – Не поздоровится ему, благородному господину, придется недельку отсидеть!
Это должно было прозвучать злобно и грозно, но я слышал запинающуюся неуверенность в тоне. Спокойно шел я на свет фонаря, где в самом деле поблескивала каска полицейского. Еще двадцать шагов – и я стоял бы перед ним. За мною парни перестали разговаривать; я заметил, как они замедлили шаги. В следующее мгновение – я это знал – они должны были трусливо нырнуть обратно во тьму, в свой мир, ожесточенные неудачей, и выместить ее, быть может, на этой несчастной. Игра подходила к концу: опять вторично я выиграл сегодня, опять обманным образом выманил у чужого, незнакомого человека его злое удовольствие. Передо мною уже мерцал бледный круг фонарей, и когда я в этот миг обернулся, то в первый раз увидел лица обоих парней: ожесточение и угрюмый стыд читал я в их шмыгающих глазах. Они остановились, подавленные разочарованием, готовые отпрянуть во мрак. Ибо власть их окончилась; теперь я был тот, кого они боялись.
В это мгновение мною овладела – и мне показалось, будто внутреннее брожение прорвало вдруг все преграды в моей груди и будто чувство мое горячо переливается в кровь – бесконечная братская жалость к двум этим людям. Чего же они домогались от меня, они, несчастные, голодающие, оборванные парни, от меня, пресыщенного паразита? Несколько крон, несколько жалких крон. Они могли бы меня задушить, убить, – и не сделали этого, а только попытались, на неуклюжий, неискусный лад, запугать меня, из-за этих маленьких серебряных монет, бесполезно лежавших у меня в кармане. Как же я смел, я, вор из прихоти, из наглости, совершивший преступление для щекотания нервов, как смел я еще мучить этих жалких людей? И в мое бесконечное страдание струился бесконечный стыд от мысли, что ради своего сладострастия я еще играл с их страхом, с их нетерпением. Я взял себя в руки: теперь, как раз теперь, когда меня уже защищал свет, струившийся с улицы, теперь я должен был пойти навстречу им, погасить разочарование в этих ожесточенных, голодных взглядах.
Круто повернувшись, я подошел к одному из них.
– Зачем вам доносить на меня? – сказал я и постарался сообщить голосу интонацию подавляемого страха. – Что вам от этого за польза? Может быть, меня арестуют, а может быть, и нет. Но вам ведь это ни к чему. Зачем вам портить мне жизнь?
Оба в смущении таращили на меня глаза. Они всего ожидали, окрика, угрозы, от которой бы попятились, как ворчливые собаки, только не этой податливости. Наконец один сказал, но совсем не угрожающе, а как бы извиняясь:
– Нужно поступать по закону. Мы только исполняем свой долг.
Это была, по-видимому, заученная фраза для подобных случаев. И все же она прозвучала как-то фальшиво. Ни тот ни другой не решались на меня взглянуть. Они ждали. И я знал, чего они ждали: что я буду молить о пощаде и что предложу им денег.
Я еще помню каждое из этих мгновений. Знаю каждый нерв, напрягавшийся во мне, каждую мысль, проскакивавшую за висками. И я знаю, чего прежде всего хотела моя злая воля: принудить их ждать, продолжать их мучить, упиться сладострастием сознания, что я их заставляю томиться. Но я быстро поборол себя, я стал клянчить, потому что знал, что должен их наконец освободить от страха. Я принялся разыгрывать комедию боязни, просил их сжалиться надо мною, молчать, не делать меня несчастным. Я видел, в какое они пришли смущение, эти бедные дилетанты вымогательства.
И тогда я произнес наконец слова, которых они жаждали так долго:
– Я… я дам вам… сто крон.
Все трое отшатнулись и выпучили друг на друга глаза. Так много они не ждали, теперь, когда все было потеряно для них. Наконец один пришел в себя, тот, у кого лицо было в оспинках и взгляд беспокойно шмыгал. Два раза начинал он говорить. Слова у него застревали в горле. Потом он произнес, и я чувствовал, как ему стыдно:
– Двести крон.
– Да перестаньте вы! – вмешалась теперь внезапно женщина. – Радуйтесь, если он вообще вам что-нибудь даст. Он ведь ничего не сделал, только притронулся ко мне. Это вы, право, через край хватили.
С подлинным ожесточением крикнула она эти слова. И у меня зазвенело в сердце. Кто-то меня пожалел, кто-то выступил моим защитником, доброта выглянула из низости, какое-то темное стремление к справедливости – из вымогательства. Какой это было усладой, как вторило это тому, что поднималось во мне! Нет, я не смею больше играть с этими людьми, не смею продолжать их мучить этим страхом, этим стыдом: довольно! довольно!
– Ладно, значит, двести крон!
Они молчали, все трое. Я достал бумажник. Очень медленно, широко раскрыл я его. В один миг могли они вырвать его у меня из рук и спастись бегством в темноте. Но они отвели застенчиво глаза. Между ними и мною была какая-то тайная общность, не было борьбы и игры, и возникло состояние правомерное, состояние взаимного доверия, человеческая связь. Я извлек два кредитных билета из украденной пачки и подал их одному из них.
– Покорно благодарю, – произнес он невольно, уже отвернувшись. Очевидно, он чувствовал сам, что смешно благодарить за добытые вымогательством деньги. Он стыдился, и этот стыд, – о, я ведь все постигал в эту ночь, каждое движение открывалось мне! – подавил меня. Я не хотел, чтобы этот человек стыдился передо мною, равным ему, таким же вором, как он, слабым, трусливым и безвольным, как он. Его унижение мучило его, и мне захотелось освободить его от этого чувства. Я отклонил его благодарность.
– Мне приходится вас благодарить, – сказал я и сам удивился тому, сколько подлинной задушевности было в моем голосе. – Если бы вы донесли на меня, я был бы погибшим человеком. Мне пришлось бы застрелиться, а вам бы это пользы не принесло. Так лучше. Я пойду теперь вправо, а вы свернете в другую сторону. Спокойной ночи!
Они опять приумолкли на мгновение. Потом один сказал:
– Спокойной ночи!
За ним второй и наконец проститутка, которая пряталась в тени. Как тепло, как сердечно это прозвучало, словно искреннее пожелание! По их голосам я чувствовал, что где-то глубоко, в тайниках души, они любили меня и что этого необычайного мгновения никогда не забудут. В тюрьме или в больнице оно, быть может, припомнится им опять: нечто от меня продолжало в них жить, нечто свое я им отдал. И радость этого дара наполняла меня, как еще ни одно чувство в жизни.







