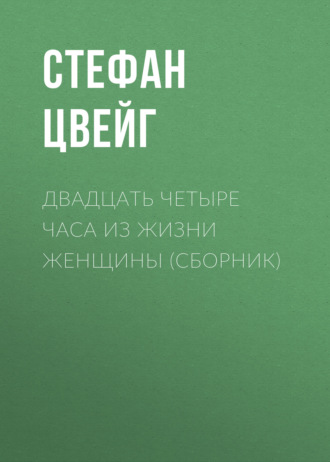
Стефан Цвейг
Двадцать четыре часа из жизни женщины (сборник)
Я уверена, что ни вы, ни другой человек с открытыми на все глазами не мог бы отделаться от этого жуткого любопытства, потому что нельзя было вообразить себе более ужасного зрелища, чем то, когда этот, самое большее двадцатичетырехлетний, молодой человек медленно, как старик, шатаясь как пьяный, не повинующимся ему разбитым телом тащился по ступеням к террасе. Там он, как мешок, упал на скамью. Я снова, содрогаясь, почувствовала: этому человеку пришел конец. Так падает только мертвый или тот, у кого для жизни уже нет сил и ни один мускул уже не действует. Голова как-то боком откинулась на спинку; безжизненно болтаясь, повисли руки; в тусклом свете фонарей прохожий принял бы его за застрелившегося. И вот, – я не могу объяснить, как это видение возникло вдруг передо мною, но оно встало во всей своей яркости, осязаемое, страшное, чудовищное, – в эту минуту я увидела его застрелившимся, и непоколебимой была моя уверенность, что в кармане у него револьвер и что завтра это тело найдут скорчившимся на этой или на другой скамейке, безжизненное, окровавленное, ибо он упал так, как камень падает в воду и уже не может остановиться, пока не достигнет дна. Я никогда не видела, чтобы одно движение говорило о такой усталости и отчаянии.
А теперь подумайте обо мне, я стояла в двадцатитридцати шагах позади скамьи, где сидел неподвижный, сраженный человек; стояла, дрожа, не зная, что делать, побуждаемая желанием помочь и сдерживаемая воспитанной во мне, врожденной боязнью заговорить на улице с чужим человеком. Газовые фонари тускло горели под затянутым тучами небом; лишь изредка проходил мимо человек; было около полуночи, я стояла почти совсем одна в парке, на берегу, рядом с этим комком отчаяния, который с презрением и безнадежностью вышвырнул сам себя из жизни. Пять, десять раз я порывалась подойти к нему, и каждый раз меня удерживал стыд или, быть может, какой-то более глубокий инстинкт, подсказывавший мне, что падающий, в отчаянной схватке, нередко увлекает за собой спасителя, – и среди всех этих моих колебаний я отчетливо почувствовала, как глупо и смешно мое положение, но не могла ни уйти, ни заговорить, ни сделать что-нибудь, ни покинуть его. Я надеюсь, вы мне поверите, если я скажу, что целый час, целый бесконечный час, пока тысячи всплесков невидимого прибоя разрывали время, я ходила взад и вперед по этой террасе, настолько потрясло и приковало меня зрелище этой полной гибели человека.
И все же у меня не хватало мужества что-нибудь сказать, что-нибудь сделать, и я, может быть, прождала бы так добрую половину ночи, до утра, или, может быть, побежденная холодным рассудком и эгоизмом, пошла бы домой; мне даже кажется, что я уже решилась бросить на произвол судьбы этот беспомощный, отчаявшийся комок, но тут случилось нечто более могущественное, чем мое решение: пошел дождь. Целый вечер наносило ветром с моря тяжелые, дымящиеся весенние тучи; сердце и грудь ощущали, что небо опустилось совсем низко; и вот упала первая капля, а затем дробно застучали гонимые ветром тяжелые, мокрые пряди сплошного ливня. Невольно я побежала под навес киоска, но хоть я и раскрыла зонтик, прыгающая влага брызгала мне на платье, руки и лицо и обдавала холодной пылью разбивающихся о землю капель.
Но – и это была такая ужасная картина, что даже теперь, после двух десятилетий, у меня сжимается горло, когда я вспоминаю, – под этим дождевым обвалом несчастный безжизненно сидел на скамье и не двигался. Из всех желобов текла и бурливо струилась вода. Из города доносился грохот мчащихся экипажей, справа и слева бегом бежали люди, и было видно в темноте, как они спешат, подняв воротники пальто. Все живое боязливо ежилось, бежало, пряталось, искало убежища. Чувствовалось, как люди и животные боятся низвергающейся стихии, – и только этот черный человеческий обломок на скамье не двигался и не шевелился. Я уже сказала вам, что у этого человека был волшебный дар – каждое свое чувство невольно выражать пластически движением или жестом, но ничто, ничто на земле не могло так потрясающе отразить это отчаяние, этот отказ от самого себя, эту смерть заживо, как эта неподвижность, это бесчувственное, мертвое сидение под хлещущим дождем, эта чрезмерная усталость, не позволявшая ему подняться и пройти несколько шагов к кровле, эта последняя степень безразличия к самому себе. Ни один ваятель, ни один поэт, ни Микеланджело, ни Данте не изображали с таким душераздирающим чувством последнее отчаяние, последнюю земную горесть, как этот живой человек, отдавшийся стихии, слишком усталый, чтобы сделать хоть какое-нибудь движение. Я не выдержала, я не могла больше. В один миг я пробежала сквозь дождевую завесу, встряхнула этот мокрый человеческий ком. «Идемте!» – я схватила его за руку, что-то с трудом двинулось вперед. Он хотел сделать какое-то движение, но ничего не понимал. «Идемте!» – я еще раз потянула за мокрый рукав, теперь уже с силой и почти сердито. Тогда он встал, безвольно шатаясь. «Что вам надо?» – спросил он, и я не нашла ответа, потому что сама не знала, куда я с ним пойду; только бы подальше от этой сырости, от этой безумной, самоубийственной оцепенелости и невыразимого отчаяния. Я не отпустила его руку и потащила этого лишенного воли человека вперед, к киоску, где узкий навес хоть немного защищал от гонимых ветром потоков неистового ливня. Больше я ничего не могла сделать, ничего не хотела, только отвести под крышу, в сухое место этого человека; больше я пока ни о чем не думала.
И так стояли мы теперь рядом в узкой сухой полосе у стены закрытого киоска, под маленьким навесом, а порывистый, хлещущий время от времени дождь обдавал нашу одежду и наши лица холодной водой. Положение было невыносимое. Я не могла стоять дольше рядом с этим промокшим чужим человеком. Но, вытащив его сюда, я не могла допустить, чтобы он безмолвно тут стоял. Что-то должно было случиться. Мало-помалу я заставила себя размышлять здраво. Лучше всего было бы отвезти его домой в экипаже, а потом и самой отправиться домой. Завтра он уже сам сумеет себе помочь. И вот я спросила его, неподвижно стоявшего рядом со мной и тупо смотревшего в бурную ночь: «Где вы живете?» – «Я нигде не живу… Я только вечером приехал из Ниццы… Ко мне нельзя пойти».
Последние слова я поняла не сразу. Только немного погодя мне стало ясно, что этот человек принимает меня за… кокотку, за одну из тех женщин, которые вечером толпами кружат около казино, чтобы обобрать счастливого игрока или пьяного. В конце концов, мог ли он думать иначе? Только теперь, когда я это вам рассказываю, я чувствую всю невероятность и фантастичность моего положения – мог ли он думать иначе? Ведь по тому, как я стащила его со скамьи и повела за собой, он действительно не мог меня принять за даму из общества. Но обо всем этом я догадалась не сразу; я только позже, может быть даже слишком поздно, начала понимать то ужасное, ложное положение, в котором я очутилась. Иначе я никогда бы не произнесла тех слов, которые могли только укрепить его в этом заблуждении. Я сказала: «Тогда надо взять комнату в отеле. Здесь вы не должны оставаться, вы должны куда-нибудь пойти».
Но теперь я уже заметила ошибку, потому что он даже не повернулся ко мне и сказал с какой-то насмешкой в голосе: «Нет, мне не нужна больше комната, мне ничего больше не надо. Не трудись напрасно, из меня ты ничего не вытянешь. Ты не к тому обратилась, у меня нет денег».
Это было так страшно сказано, с таким потрясающим безразличием! И то, как он стоял, вяло прислонясь к стене, этот промокший, вконец измотавшийся человек, так взволновало меня, что я даже не подумала обидеться. Я снова почувствовала то, что ощутила в первое мгновение, когда он побрел из казино, и то, что я ощущала в продолжение всего этого невероятного часа: что здесь человек, молодой, живой, дышащий человек стоит вплотную к смерти и что я должна спасти его. Я подошла к нему ближе: «Не беспокойтесь о деньгах и едемте. Вы не должны здесь оставаться. Я дам вам приют. Пусть это вас не беспокоит, и идите сейчас».
Он повернул ко мне голову, и, в то время как вокруг барабанил дождь и водосточные трубы струили к нашим ногам хлюпающую воду, я почувствовала, что он в первый раз старается в темноте разглядеть мое лицо. Его тело будто медленно начинало выходить из своей летаргии.
«Ну, как хочешь, – сказал он наконец. – Мне все равно. В самом деле, почему бы и нет? Идем!»
Я раскрыла зонтик, он подошел ко мне и взял меня под руку. Эта внезапная интимность была мне неприятна, больше того, я пришла в ужас, и страх пронизал меня до глубины души. Но у меня не хватало мужества запретить ему что-нибудь. Если бы я оттолкнула его, он упал бы в бездну, и тогда все, что я уже успела сделать, оказалось бы бесполезным. Мы пошли назад в сторону казино, и тогда только у меня мелькнула мысль, что я не знаю, что же мне с ним делать. Я быстро сообразила, что лучше всего было бы отвезти его в отель, у подъезда сунуть ему в руки деньги, чтобы он там переночевал и утром уехал домой. О дальнейшем я не думала. Мимо казино торопливо проезжали экипажи, я остановила один. Мы сели, и, когда кучер спросил, куда везти нас, я сначала не знала, что ответить. Но тут я вспомнила, что человек в промокшей одежде, с которой стекает вода, не может найти хорошего приема в дорогом отеле, и, как совсем неопытная женщина, не подумав об этой двусмысленности, я крикнула кучеру: «В какую-нибудь гостиницу попроще!»
Мы сели. Равнодушный, промокший кучер погнал лошадей. Мой сосед молчал, колеса стучали, а дождь шумно барабанил о стекла. В этом темном, гробоподобном ящике у меня было такое ощущение, словно я еду с трупом. Я старалась собраться с мыслями, найти какие-то слова, чтобы нарушить это странное, страшное молчание, но ничего не могла придумать. Через несколько минут экипаж остановился. Я вышла первая и расплатилась с кучером, пока мой спутник, словно пьяный, вылезал из экипажа. Мы стояли у дверей маленькой незнакомой гостиницы. Под стеклянным навесом было небольшое защищенное место, а вокруг, в непроницаемой ночной тьме, с отвратительной монотонностью шумел дождь.
Незнакомец, побежденный тяжестью собственного тела, невольно прислонился к стене. С его промокшей шляпы и измятого платья текла вода. Он стоял, как вытащенный из реки и еще не совсем пришедший в себя тонувший человек, и в том месте, к которому он прислонился, стекал вниз ручеек. Но он не сделал даже легкого движения, чтобы отряхнуться, снять шляпу, с которой капли, как слезы, стекали на его лицо. Он только стоял безжизненно, и я не могу передать вам, как меня волновала эта сломленность.
Но надо было что-нибудь делать. Я опустила руку в карман. «Вот вам сто франков, – сказала я. – Снимите себе на них комнату и утром поезжайте обратно в Ниццу».
Он удивленно взглянул на меня.
«Я видела вас в игорном зале, – торопливо продолжала я, заметив, что он колеблется. – Я знаю, что вы все проиграли, и боюсь, что вы на пути к тому, чтобы сделать глупость. Нет стыда в том, чтобы позволить помочь себе: вот, возьмите».
Но он оттолкнул мою руку с силой, которой я от него не ожидала. «Ты славная женщина, – сказал он, – но оставь свои деньги себе, мне ничем уже не помочь. Буду ли я еще спать эту ночь или не буду – это не имеет никакого значения. Завтра все равно конец. Мне уже не помочь».
«Нет, вы должны взять, – настаивала я. – Завтра вы будете думать иначе. А пока зайдите сюда и усните. Днем все кажется совсем другим».
Но он почти запальчиво оттолкнул мою руку, когда я протянула ему деньги. «Оставь, – глухо повторил он. – В этом нет смысла. Лучше я это сделаю на улице, чем пачкать здесь кровью людям комнату. Мне не помогут ни сто франков, ни даже тысячи. Завтра я снова с последними пятью франками пошел бы в казино и играл бы до тех пор, пока ничего бы не осталось. К чему начинать снова? С меня довольно».
Вы не можете себе представить, как терзал мою душу этот глухой голос; но подумайте, в двух дюймах от вас стоит молодой, светлый, живой, дышащий человек, и вы знаете, что, если не напряжете всех сил, эта мыслящая, говорящая, дышащая юность через каких-нибудь два часа будет трупом. И тут во мне поднялось неистовое, бешеное желание победить это безумное сопротивление. Я схватила его за руку: «Бросьте эти глупости. Вы сейчас же войдете и снимете комнату, завтра придете ко мне, и я отвезу вас на вокзал. Вам нужно прочь отсюда. Завтра же вы должны уехать домой, и я не успокоюсь, пока не увижу вас в поезде с билетом. В молодости не выбрасывают жизнь только потому, что проиграли несколько сот или тысяч франков. Это трусость, это глупый припадок злости и раздражения. Завтра вы сами скажете, что я права».
«Завтра, – мрачно и насмешливо повторил он. – Если бы ты знала, где я завтра буду. Да, и если бы я сам это знал. Мне самому любопытно. Нет, ступай домой, дитя мое, не трудись и не швыряй деньгами».
Но я не уступала. Это превратилось во мне в какую-то манию, в какое-то неистовство. Я с силой схватила его руку и всунула туда ассигнацию. «Вы возьмете деньги и сейчас же войдете сюда, – с этими словами я решительно подошла к звонку и позвонила, – вот, я позвонила, выйдет сейчас портье. Завтра в десять часов я буду ждать вас здесь, около этого дома, и отвезу вас прямо на вокзал. Не заботьтесь больше ни о чем, я все устрою, все сделаю, чтобы вы были дома. А сейчас лягте, усните и не думайте больше об этом».
В эту минуту изнутри в двери щелкнул ключ, портье отворил.
«Ну, идем», – сказал он вдруг каким-то жестким, властным, мрачным голосом, и я почувствовала, как его пальцы, словно сталь, сжали мою руку. Меня охватил страх… такой пронизывающий страх… я так растерялась от неожиданности, что ничего не соображала. Я хотела сопротивляться… вырваться… но моя воля была сломлена… и потом… вы поймете… мне было стыдно бороться с чужим человеком перед портье, который стоял и нетерпеливо ждал. И вот я очутилась в гостинице; я хотела заговорить, что-нибудь сказать, но горло судорожно сжалось… на моей руке тяжело и властно лежала его рука… я смутно сознавала, что она ведет меня по лестнице… звякнул ключ…
И вот я очутилась одна с этим незнакомцем в какой-то чужой комнате, в гостинице, названия которой я не знаю и теперь.
Миссис К. снова умолкла и вдруг встала. Ее голос словно отказывался ей повиноваться. Она подошла к окну и несколько минут молча смотрела в него, а может быть, просто прильнула лбом к холодному стеклу; я не решался взглянуть на нее, потому что мне было тяжело видеть волнение этой старой дамы. Я сидел совсем тихо, ничего не спрашивая, и ждал, пока она спокойной походкой не вернулась на свое место и не села снова против меня.
– Теперь уже сказано самое тяжелое. И я надеюсь, что вы мне поверите, если я скажу и поклянусь вам всем, что для меня свято, моей совестью, моими детьми, что до той минуты мне и в голову не приходила мысль… о связи с этим незнакомым человеком, что я совсем безвольно, бессознательно, словно провалившись в западню на ровной дороге моей жизни, очутилась в этом положении. Я дала себе клятву в каждом слове быть правдивой перед вами и собой, и я снова повторяю, что только бешеное желание помочь и ничто другое, не личное чувство, не что-либо похожее на это, завлекло меня в это трагическое приключение.
Вы меня избавите от необходимости рассказывать о том, что случилось в этой комнате в ту ночь. Сама я не забыла и не хочу забывать ни одного мгновения этой ночи. В эту ночь я боролась с человеком за его жизнь, я чувствовала, что он со всей жадностью и страстностью молодости еще цепляется за нее. Он ухватился за меня, как тот, кто уже видит у себя под ногами бездну. Я же забыла о себе, чтобы спасти его, спасти всем, что у меня было. Такие часы человек переживает только раз в жизни, переживает один из миллионов людей, и без этого ужасного случая я никогда бы не почувствовала, как страстно, с каким отчаянием, с какой необузданной жадностью приникает потерянный, сраженный человек к каждой капле жизни, я, двадцать лет огражденная от демонических сил бытия, никогда бы не постигла, как грандиозно и фантастически иной раз сплетает природа зной и холод, жизнь и смерть, ликование и отчаяние в одном коротком мгновении. Эта ночь была так полна борьбы и слов, страсти, гнева и ненависти, слез мольбы и опьянения, что она казалась мне тысячелетием. И мы, два человека, низвергнутые в нее, один – жаждавший смерти, неистовый, другой – ничего не сознающий, вышли из нее преображенными, с новыми мыслями, с новыми чувствами. Но я не хочу об этом говорить. Я не могу этого передать и не буду. Но о той ужасной минуте, когда я проснулась утром, я должна вам рассказать. Я очнулась от свинцового сна, я вышла из такой глубины мрака, какой я до тех пор не знала. Я долго не могла открыть глаза, и первое, что я увидела, был незнакомый мне потолок, потом различила всю незнакомую, отвратительную комнату и не могла понять, как я в ней очутилась. Сначала я успокаивала себя, что это только сон, какой-то более светлый, более прозрачный сон, и что я наконец выбираюсь из того совсем глухого, удушливого сна, но в окно уже светило ясное, утреннее солнце, а снизу доносился шум улицы, я слышала стук колес, звон трамваев и голоса людей, и тогда я поняла, что я не сплю, что это наяву Невольно я поднялась, чтобы прийти в себя, и вот, посмотрев в сторону… я увидела – никогда я не сумела бы передать вам моего ужаса – увидела человека, спящего рядом со мной на широкой кровати… совсем чужого, чужого, чужого, полуголого, незнакомого человека.
Я бы никогда не сумела передать вам этого мгновения. Ужас с такой силой охватил меня, что я бессильно откинулась назад. Но это был не обморок, не потеря сознания, напротив, с быстротой молнии все для меня стало ясно и вместе с тем необъяснимо, и теперь мне хотелось только одного – умереть от отвращения и стыда за то, что я очутилась с каким-то чужим человеком в кровати какого-то подозрительного притона. Я хорошо помню, сердце у меня не билось, я задерживала дыхание, словно этим могла прекратить жизнь и загасить сознание, это ясное, до ужаса ясное сознание, которое все видело и ничего не понимало. Не знаю, как долго я лежала так, похолодевшая с ног до головы, как лежат покойники в гробу. Я закрыла глаза и взывала к Богу, взывала к небесным силам, чтобы все это оказалось неправдой, наваждением. Но мои обострившиеся чувства уже не мирились с обманом, в соседней комнате я слышала плеск воды и голоса, из коридора доносилось шарканье шагов, все это говорило мне о том, что это правда, и я чувствовала себя все более и более униженной.
Как долго длилось это отвратительное состояние, я не могла бы сказать: у таких мгновений совсем другой ход, чем у жизни. И вдруг меня охватил страх, невероятный, животный страх, что этот человек, имени которого я даже не знаю, сейчас проснется, заговорит со мной. Я поняла, что мне остается только одно – одеться и бежать, пока он не проснулся. Чтобы он никогда меня больше не видел, никогда не говорил со мной. Спастись, пока не поздно, прочь, прочь, прочь отсюда. Назад к своей жизни, какой бы то ни было, в свой отель, и с первым же поездом прочь из этого проклятого места, из этой страны, никогда больше не встречать его, в глаза его не видеть, чтобы не было свидетелей, чтобы никто не знал и не мог обвинить.
Эта мысль вернула мне силы. Осторожно, без шума, крадущимися, воровскими движениями медленно сползла я с кровати и взяла свое платье. Я осторожно оделась, все время дрожа от страха, что он проснется. Наконец я была совсем готова, это мне удалось, только шляпа моя лежала по ту сторону у ножки кровати, и вот, когда я на цыпочках подошла к ней, надела ее и была уже в безопасности – в эту минуту я не могла не посмотреть, я должна была еще раз взглянуть на этого чужого человека, который, как камень на голову, упал в мою жизнь. Я хотела бросить только один, беглый взгляд, но… это было поразительно… тот чужой молодой человек, который дремал там, был теперь действительно совсем чужим для меня человеком: сначала я даже не узнала вчерашнего лица. Так теперь разгладились обуреваемые страстью, напряженные, искаженные, судорожно натянутые черты смертельно возбужденного лица: это было совсем другое, детское лицо, лицо мальчика, прямо-таки сиявшее весельем и чистотой. Закушенные вчера губы разжались, сонно приоткрытые, припухлые, готовые к улыбке; нежно вились светлые волосы вокруг гладкого лба, и ровное дыхание легкими волнами пробегало от груди по всему успокоившемуся, блаженно облегченному телу.
Вы, может быть, вспомните, – я вам уже говорила, что никогда, ни у одного человека я не видела такого сильного, преступно сильного выражения жадности и страсти, как у этого незнакомца за игорным столом. А теперь я скажу, даже у детей, которые во сне иной раз излучают ангельское сияние чистоты, не видела я такой ясной безмятежности, такой поистине блаженной дремоты. На этом лице так же ясно, как и тогда, отражались все чувства, но теперь райски освобожденные от внутренней тяжести, раскованные, спасенные. При этом неожиданном зрелище, словно тяжелый, черный плащ, спал с меня всякий страх, всякий ужас. Я уже ничего не стыдилась и была почти счастлива. Все жуткое, все непостижимое получило для меня особый смысл, я радовалась, я гордилась мыслью, что, не принеси я себя в жертву этому молодому, нежному, красивому человеку, который ясно и тихо, как цветок, лежал здесь, он был бы найден где-нибудь на скале с окровавленным, разбитым, раздробленным лицом, уже остывший, с безобразно вылезшими глазами. Я его спасла. Он был спасен. И я не могу назвать это иначе – я смотрела материнским взором на спящего, которому я вновь, с большей мукой, чем собственным детям, дала жизнь. И в этой потрепанной, грязной комнате, в этой мерзкой, случайной гостинице меня охватило такое чувство – может быть, это звучит смешно, – будто я стою в церкви, чудесное чувство блаженства и святости. И из самого страшного мгновения целой жизни возникло другое, самое удивительное и покоряющее.
Шумно ли я пошевелилась? Сказала ли что-нибудь невольно? Я не знаю. Но вдруг спящий открыл глаза. Меня охватил страх. Я отшатнулась. Он удивленно посмотрел вокруг – совершенно также, как и я. Казалось, он медленно выбирался из какой-то глубины и потерянности. Его взгляд вопрошающе скользил по чужой, незнакомой комнате, потом удивленно остановился на мне. Но прежде чем он заговорил, прежде чем он пришел в себя, я уже овладела собой. Я не должна была допустить ни одного слова, ни одного вопроса, никакой близости; о том, что случилось вчера, нельзя было ни вспоминать, ни говорить. «Я должна идти, – быстро сказала я. – Останьтесь здесь и оденьтесь. В двенадцать часов вы встретите меня у входа в казино, там я позабочусь обо всем остальном».
И, прежде чем он успел мне возразить, я выбежала вон, чтобы только не видеть этой комнаты, я бежала не оборачиваясь из дома, названия которого я не знала, так же как и имени того человека, с которым я там провела ночь.
На одно мгновение миссис К. прервала свою повесть. Но в ее голосе не было уже ни муки, ни напряжения. Как с трудом взобравшаяся на гору повозка легко и быстро катится по склону с высоты, так теперь, не задерживаясь, совсем в другом темпе продолжался ее рассказ.
– Итак, я бежала к себе в отель по ярким утренним улицам. Все темное, что заслоняло небо, было сметено бурей, как и мое мучительное чувство. Ибо не забывайте то, что я сказала вам раньше: после смерти мужа я отказалась от личной жизни. Детям я была не нужна, сама себе тоже, потому что всякая жизнь – заблуждение, если она не ведет к определенной цели. И вот в первый раз на мою долю выпала неожиданная задача: я спасла человека, вырвала его из небытия с помощью всех своих сил. Оставалось преодолеть еще немногое, и эта задача должна была быть выполнена до конца.
Итак, я побежала к своему отелю. Удивленный взгляд портье, которому показалось чрезвычайно странным, что я возвращаюсь домой в девять часов утра, скользнул мимо меня: уже не стыд и не досада на случившееся, а внезапное пробуждение моей воли к жизни владело мной; неожиданное, новое чувство, что моя жизнь нужна, – горячо струилось по моим жилам. Я быстро переоделась у себя в комнате, бессознательно (я это заметила только позднее) сняла траурное платье, чтобы заменить его более светлым, пошла в банк запастись деньгами, потом на вокзал справиться об отходе поезда; с удивившею меня саму твердостью я заставила себя позаботиться и о некоторых других делах. Теперь уже больше ничего не оставалось делать, как добиться отъезда и спасения брошенного судьбой на мое попечение человека.
Конечно, требовалось еще последнее усилие, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Ибо все, что произошло вчера, случилось в темноте, в каком-то вихре. Мы были словно два столкнувшихся, низвергнутых водопадом камня. Мы едва знали друг друга в лицо, я не была даже уверена, узнает ли меня этот незнакомец. Вчера была случайность, опьянение, безумие двух потерявших голову людей. Но сегодня он уже должен был окончательно составить мнение о той, которая вчера отдалась ему, ведь сегодня я должна была встретить его с открытым лицом, как живой человек. Дело надо было довести до конца, и я собрала все свои силы, успокоив себя внутренне тем, что эта встреча при дневном свете будет нашей последней встречей, так как и на эту мою исповедь я решилась, уверившись в том, что завтра я вас больше не увижу.
Но все оказалось легче, чем я думала. Едва только в назначенный час я подошла к казино, какой-то молодой человек вскочил со скамьи и поспешил мне навстречу. В его растерянности было столько же искреннего, детского, непосредственного, счастливого, сколько и во всех его красноречивых движениях. Он шел ко мне с сияющими благодарной и почтительной радостью глазами, которые, однако, смиренно опустились, едва заметили, что я его узнала. Благодарность редко чувствуется у людей, и как раз наиболее благодарные не находят средств ее выразить, они смущенно молчат, стыдятся и скрывают свое чувство. Но в этом человеке, в котором как бы некий таинственный ваятель точно, рельефно и красиво отражал каждое движение чувств, светилась и благодарность, излучавшаяся, словно страсть, из самых глубин его тела. Он нагнулся над моей рукой и, нежно склонив свою юношескую голову, с минуту оставался в смущенной неподвижности. Не сразу вышел он из этого состояния благоговейной робости, спросил меня о здоровье, трогательно посмотрел на меня, и столько почтительности было в каждом его слове, что уже через несколько минут у меня исчезли последние опасения и происшедшее уплыло назад, как облако.
А окружавший нас волшебный вид словно отражал это просветление чувства. На море, которое гневно вздымалось вчера, был такой неподвижный, безмятежный штиль, что белым блеском отсвечивал каждый камень под легким прибоем; казино – эта адская яма – блестело своим белым мавританским фасадом в безоблачном, шелковом небе, а тот киоск, под крышу которого нас вчера загнал ливень, был полон цветов: яркими грудами лежали там пышные букеты цветов и растений – белые, красные, зеленые, пестрые, которые продавала молодая девушка в яркой кофте.
Я пригласила его позавтракать со мной в маленьком ресторане, и там молодой незнакомец рассказал мне свою трагическую историю. Она вполне подтверждала мои первые догадки, когда я увидела на зеленом столе его дрожащие, возбужденные руки. Он происходил из старого аристократического рода австрийской Польши, готовился к дипломатической карьере и месяц тому назад блестяще сдал свой первый экзамен. Чтобы отпраздновать этот день, его дядя – один из высших чинов генерального штаба, – у которого он жил, повез его на Пратер, и они вместе пошли на скачки. Его дяде повезло. Он трижды подряд выиграл. С толстой пачкой банкнот вернулись они домой и поужинали в шикарном ресторане. На следующий день начинающий дипломат получил от своего отца в награду за успешно выдержанный экзамен денежную сумму в размере его месячного содержания. Дня за два до того эта сумма показалась бы ему еще большой, но теперь, после того легкого выигрыша, он отнесся к ней равнодушно и небрежно. Сразу же после обеда он поехал на скачки, играл с безумным азартом, полагаясь только на случайность, и его счастье или, вернее, несчастье было таково, что после последнего заезда он покинул Пратер с утроенной суммой в кармане.
И вот его охватила страсть к игре – на скачках, в кафе, в клубах, завладела его временем, оторвала от занятий, расшатала нервы и прежде всего поглощала деньги. Он ни о чем не мог больше думать, не мог успокоиться и хоть сколько-нибудь овладеть собой. Как-то ночью, вернувшись домой из клуба, где он все проиграл, он нашел, раздеваясь, в жилете скомканную, забытую ассигнацию. Он не мог удержаться, оделся, блуждал по улицам, пока не нашел в каком-то кафе за домино двух игроков, с которыми и просидел до утра.
Один раз его выручила замужняя сестра, заплатив долг ростовщикам, проявлявшим величайшую готовность услужить наследнику громкой аристократической фамилии. Однажды ему снова повезло в игре, но затем он неудержимо покатился вниз, и чем больше он проигрывал, тем более страстно хотелось ему выиграть. Он уже давно заложил свои часы и платье, и наконец случилось ужасное: он выкрал из шкафа у старой тетки две жемчужные булавки, которые она редко носила. Одну он заложил за большую сумму, которую игра учетверила в тот же вечер. Но вместо того чтобы выпутаться из этого дела, он рискнул всем и проиграл. Ко времени его отъезда кража еще не была обнаружена, и вот он заложил вторую булавку и, следуя внезапному стремлению, уехал в Монте-Карло, чтобы там добыть вожделенное богатство. Он продал здесь свой чемодан, платье, зонтик. У него не осталось ничего, кроме револьвера с четырьмя патронами и маленького, усыпанного бриллиантами крестика его крестной матери, княгини X., с которым он не хотел расстаться, потому что мать заклинала его никогда не снимать этого креста. Но и этот крест он продал днем за 50 франков, чтобы вечером в последний раз снова испытать мучительную радость игры на жизнь и на смерть. Все это он рассказал с чарующей грацией, с присущей ему творческой живостью. Я слушала, взволнованная, потрясенная, растроганная, и ни на одно мгновение мне не приходила в голову мысль возмутиться тем, что ведь этот человек, который сидит со мною, – вор. Если бы кто-нибудь сказал мне вчера, мне, женщине с безупречно проведенной жизнью, требовавшей в своем присутствии строжайшего соблюдения приличий, что я буду дружески сидеть рядом с совершенно незнакомым мне молодым человеком, чуть постарше моего сына, человеком, который украл жемчужные булавки, я сочла бы его сумасшедшим. Но за все время его рассказа я не чувствовала ничего, что было бы похоже на ужас. Он рассказал все это так естественно, с такой страстностью, что его история казалась мне скорее рассказом о каком-то бреде, о болезни, и я не находила причин возмущаться. А потом, кому, как не мне, пришлось минувшей ночью пережить такую бурную неожиданность, что слово «невозможно» потеряло для меня всякий смысл: за эти десять часов я узнала неизмеримо больше жизненной правды, чем до того за сорок лет мирно прожитой жизни.







