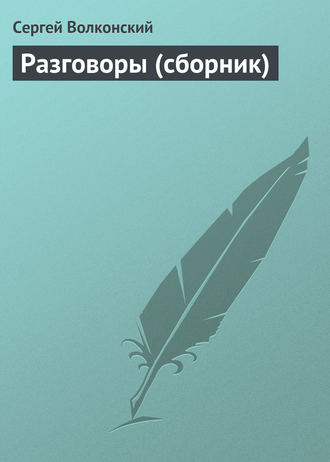
Сергей Волконский
Разговоры (сборник)
9. Сумасшедший
Василию Григорьевичу Есипову
Его слова хотя немного дики,
Но не безумны.
«Гамлет»
– Билетики ваши позвольте.
– Эти контролеры, кажется, только для того и существуют, чтоб будить людей; если не от сна будить, то отвлекать от размышлений. Все тебя возвращает в действительность. И непременно – в его действительность полезай. Точно другой действительности на свете нет. Наставление на путь истины. Все спит, можно сказать, в забытьи находится, а он… Вот, смотрите, ошибаюсь ли я…
– Вам, господин, в Козлове пересадка.
– Слышали? Что я вам сказал. Точно нет на свете другой истины, кроме его истины.
– Во-первых, не обижайте контролера, это не он вам сказал, а кондуктор.
– Даже второй кондуктор, а может быть, и третий, а может быть, провожатый, а может быть, истопник. Разве я могу расчленять это составное чудовище, которое с холоду вваливается – глазастое своими увеличительными фонарями – и не имеет другого назначения, как проверить, честный ли ты человек – не едешь ли даром, здравый ли ты человек – не едешь ли в обратную сторону, грамотный ли человек – умеешь ли читать, что написано на твоем билете… Ну-с, а во-вторых?
– Что – во-вторых?
– Я не знаю, что во-вторых, ведь вы сказали: «Во-первых, не обижайте контролера». Так я спрашиваю: во-вторых?
– Я, собственно, не имел в виду…
– Ах, не имели? Так в театрах в таких случаях возвращают деньги обратно, а в разговорах…
– Простите, я и не подозревал, что вы мне что-нибудь заплатили за случайно сорвавшееся слово.
– Я не платил-с, а я вам подарил-с – внимание свое подарил, а это есть нечто; во всяком случае, нечто такое, чем злоупотреблять считается неприличным-с.
– Позвольте, позвольте, я в мыслях не имел…
– Я, милостивый государь, не на вас. А я вообще. Вы что? Случайная встреча, пассажир. Вы знаете, что значит французское слово «пассажир»? Вот то-то и есть. Словами иностранными небось тоже стреляете, а чем патрон набить, не полюбопытствуете. Жуир знаете что значит?
– Ну, знаю, – вроде кутилы.
– Ну-с, а откуда?
– Что – откуда?
– Слово-то откуда?
– От французского.
– Сперва от русского – жуировать, а там от французского – жуир; понимаете – французский глагол «жуир». Ну и «пассажир» также – от пассажировать, французский глагол «пассажир»… Что вы так смотрите? Да вы, простите, может быть, по-французски не знаете?
– Нет, я знаю… конечно, не то чтобы… но…
– Ну да ведь тонкости-то мало кому и доступны.
– Но могу сказать, что понимаю.
– А понимаете, так должны вникать, иностранные слова чтоб не холостые заряды были. Ну-с, а вот вы говорите, по-французски знаете, а что значит: «Иль эм а се десинэ деван ле дам»? Не знаете?.. Не понимаете?.. Ну «десинэ» что значит?
– Рисовать.
– «Се десинэ» что значит?
– «Се десинэ»?
– Ну да, переспрос не ответ. «Се десинэ»? Не знаете? Ну слыхали же вы, про профиль горы, например, говорят: «Се десинэ сюр ле сиель».
– Ах да, это так.
– А что же не так? Все так, вы только не так. Ну-с, а теперь «се десинэ деван ле дам»?
– Я… право… не знаю…
– Чего же вы, например, не знаете? «Деван ле дам»? «Деван ле дам» не знаете?
– Послушайте, я не понимаю…
– Я давно вижу, что вы не понимаете. Так я вам объясню. Объясню вам, так и быть, чего вы не понимаете. «Иль эм а се десинэ деван ле дам» – это значит: «Он любит рисоваться перед дамами». Понимаете? Или вы, может быть, никогда не рисовались перед дамами? Вы, может быть, никогда не любили рисоваться перед дамами?
– Да нет же, пожалуйста, я вовсе…
– Ну так зачем же вы уставились? Или вы знаете французский язык, тогда нечего таращиться, или вы его не знаете, тогда поблагодарить надо, а не таращиться.
– Я, право, ничего, только…
– Ну-с?
– Я не знаю…
– Чего?
– Вы слышали?
– Чтобы так говорили?
– А вы разве слышали, чтобы кто-нибудь по-французски правильно говорил?
– Но откуда в таком случае…
– Что, милостивый государь? Вы позволяете себе сомневаться! Вы не только сами не знаете, вы позволяете себе сомневаться в знаниях других! Если ваши уши не верят тому, что вам говорят люди образованнее вашего, то, может быть, глаза ваши поверят тому, что печатают люди образованнее вашего. Уж я больше не буду… перед вами… метать-с… Нда-с, а приглашаю вас посмотреть русско-французский словарь Макарова, на слово «рисовать»… Да вы, может быть, и по-русски-то не умеете? «На шерамышку» что значит? «За счет приятеля», понимаете? – от «шер ами». Не знали? А «облапошить» что значит? «Ударить по карманам» – «ла пош», карман… Что вы кругом озираетесь? Не видали, на что похоже отделение второго класса в два часа ночи? Под потолком узлы, на полу корзины, фонарь завешен, на крючке качается дамская шляпка, а на всех диванах, каблуками вниз, носками вверх, торчат подошвы… Не видали? Никогда не ездили?
– Нет, я так… Душно…
– Ах да, вам вентиляции захотелось. Покорно благодарю! Двенадцать человек в отделении спят, можно сказать, в испарине, а оттого что вам одному не спится, они должны все простудиться! Наняли бы себе четырехместное отделение и царствовали в нем.
– Послушайте, вы знаете, с кем вы говорите?
– Нет, не имею… как говорится, не имею удовольствия.
– Ну так я вам посоветую умерить ваш нравоучительский тон.
– Да я не на вас. Я вам уже сказал, что я вообще. Вы что? Вы пассажир. Вы знаете, что такое французское слово «пассажир»?
– Знаю, знаю, вы же мне объяснили.
– А знаете, так что же вы ерошитесь? Мы все пассажиры. Для меня всякий человек на земле пассажир, ну и, конечно, всякий пассажир на земле человек. Я вообще признаю только человека, я людей не признаю. Я признаю человека и человечество. И когда я человека встречаю, я воспитываю человечество. Понимаете? Миссию понимаете?
– Трудная…
– А разве легкие бывают? Тогда они миссиями не называются. Они называются поручениями, даже особыми поручениями. Миссия – это когда человек себя по кусочкам раздает; понимаете, это насыщение, только не хлебами, а самим собой. Его не хотят, его не берут, а он все-таки отдает да отдает. Только тут маленькая тонкость: люди не берут, а человек возьмет. Вот отчего я человека люблю, а людей не люблю. «Ах, люди-люди, люди злые, зачем сгубили»…
– Что же остановились?
– Зачем сгубили вы себя!
– Себя?
– Не нравится «себя»? «Других» лучше? Ах вы! Альтруист!
– Да ведь в песне – «молодца».
– А люди не молодцы? Еще какие молодцы. Человек хочет закрепиться… Вы что, деревенский будете или городской?
– Городской.
– Ну так что значит «закрепиться», конечно, не знаете?
– Не знаю.
– Это кто из общинного владения на личную собственность переходит. Это значит, что его земля уже никогда в дележ не поступит, а перейдет его личным наследникам. Ну-с, так понимаете? Человек хочет закрепиться, а люди не хотят: им не на руку. И вот идет Молва. А Молва, вы заметили, всегда людям помогает – Молва человека не любит. Вот и идет Молва. «Идет-гудет зловещий шум». Все, что на этой земле родится, мол, не твое будет. Ты сеешь, убираешь, а хлеб в казну пойдет; твоя курица яйцо снесет, а цыпленок казенный. Корову к казенному бычку на случку поведешь, ан телок-то казенный. Вот, понимаете, с бычком-то какая выходит «решерш де ля патернитэ», «установление отцовства», только наоборот – «а ребур», как говорят в кадрилях. Да-с, сумасшедший того не выдумает, что Молва выдумать может, потому сумасшедший – это человек, а Молва – это с ума сошедшие люди, то единица, а то собирательная единица. Ведь вот люди: лопатой по ветру пустить – пыль одна, а в куче лежат – законодательствуют! Зато когда людям от человека достается, лучшего нет для меня удовольствия. Тоже из землеустроительной практики…
– А вы член землеустроительной комиссии?
– А зачем вам это знать? Сказано, пассажир, чего еще? Из землеустроительной практики. Целое село у нас одно порешило закрепиться. Ну, комиссия, инспектор, планы, столбы… Только приступать к межеванию, откуда ни возьмись, кавказец какой-то: «Я, говорит, вашего села, такой-то, ушел, а отец был собственник, и давность не прошла, пожалуйте и меня в дележ включить». Конечно, гвалт: тебя не знаем, жили без тебя. Он, недолго думая, – на сто рублей водки. Ему землю отрезали, он тут же ее за тысячу рублей продал и уехал обратно на Кавказ, «на тот погибельный». Вот за что я человека люблю, а людей не люблю. Лучше нет, как когда человек сжав губы стоит, а люди – разиня рот; люди – растопырив руки, а человек – скрестивши на груди. Вы что же молчите?
– Я вас слушаю.
– Надоело тоже противоречить? И правы. Не человеческое это дело – противоречить, это дело людское, а не человеческое. Человек людям «да», а люди ему «нет». Человек! Ведь человек все. Вы искусство любите?
– Люблю.
– Ну а что такое искусство? Толстой писал, писал, так и не написал. Что такое искусство? Человек. А что такое публика?.. Что такое публика, я вас спрашиваю?
– Публика?
– Ну да, публика, переспрос не ответ. Что такое публика?
– Люди…
– Вы как будто сомневаетесь. Положим, усумниться позволительно. Ну-с, а наука что такое?
– Человек?
– А то, может быть, люди? Галилея-то кто осудил? А Колумба в темницу кто посадил? А Пушкина кто убил? «Ах люди-люди, люди злые»… А стадо что такое?
– Домашний скот.
– А пастух что такое?
– Человек.
– Ну вот. И запомните.
– Билетики ваши позвольте.
– Опять!
– А этот что, по-вашему?
– То есть?
– Человек или…
– Вам в Козлове, господин, пересадка, подъезжаем.
– Что он такое, не знаю, а только произошел он, конечно, от людей, не от человека. Все чиновники произошли от людей. Что смотрите? Вы не знали, что все чиновники произошли от людей? А вы что же думали? От людей, могу вас уверить. Они от людей произошли, и потому не имеют генеалогии. То есть, может быть, и имеют, а только проследить нельзя, потому что во множестве нить теряется… Вот вы опять таращиться начинаете. А это проще простого. В Лондоне однажды преступника искали – оказался китаец. Стали следить, по улице за ним пошли; он в дом – за ним, он в квартиру – за ним. Входят в комнату, вся комната битком набита китайцами: который же? Все похожи. Нить-то и пропала. Так и с чиновником. Если захотите происхождение проследить… Что вы опять пошли таращиться?
– Я ничего… спать хочется…
– Если бы спать, то у вас бы глаза не таращились, а слипались… Так если захотите происхождение проследить, надо сперва… Виноват, мои калоши, кажется, под вашей скамейкой… Простите, благодарю вас… Надо сперва из людей его выделить… Фу ты черт, тормоз-то – тоже люди выдумали… и ведь всегда, когда стоишь на ногах да еще руки вещами заняты… Из людей сперва выделить, в человека превратить… Вот тебе на, билета не могу найти…
– У вас не отобрали?
– Кто же отобрали?
– Человек, тот, что проходил.
– Так тогда не «отобрали», а «отобрал»; а «отобрали» – значит, люди… Носильщик!.. Ни в одном слове, милостивый государь, такой разницы нет между единственным и множественным… Два места, два места и узелок… И в одном только значении единственное и множественное совпадают, да-с, – позорнейшее применение-с священнейшего слова… Что смотрите? Небось в ресторане обед заказываете, – кого зовете карточку подать? А у дворецкого какой-нибудь барыни спросите, – как в деревню ездите? Сами, скажет, в первом классе, а в третьем… Кто же в третьем-то? «Сами» – то что же, не люди, что ли? «Да на чреде высокой не забудешь святейшего из званий – Человек»! Шампанского!.. Позорно, милостивый государь, позорно-с… Вот билет, нашелся. Да не могли его у меня отобрать, – ведь я дальше еду. Не могли: ничего люди против меня не могут… потому что я не человек… но и не лакей-с… Приятного путешествия.
– Носильщик!
– Что прикажете?
– Этого господина знаешь как зовут?
– Обносков-с.
– Больной?
– Нет, зачем.
– Ближний?
– Не могу знать, на Тамбов ездиют.
– Хороший человек!
– Людей не обижает… Простите, барин, – дожидаются.
Павловка,15 октября 1911
10. Вокруг света
Княгине Софье Николаевне Барятинской
И прошлые века стоят, как привиденья,
Как цепь высоких гор, как ряд недвижных волн.
С. Маковский
– А, как я рад! Давно в Москве?
– Сегодня утром.
– И я сегодня утром, из деревни.
– Я из Петербурга… Стремление в Москву…
– Сердце России…
– А «Эрмитаж» – сердце сердца.
– «Le coeur de ton coeur». Вы заказали?
– Заказал.
– Что?.. Впрочем, все равно. Мне то же самое… Ну-с, я очень рад встрече. У меня такое чувство, что я опять на фарватер попал.
– А вы блуждали?
– Когда же мы не блуждаем? Когда одни. А с людьми – по пальцам пересчитать тех, с кем не блуждаем.
– Какие же у вас в деревне «люди», да еще в октябре месяце?
– Я в уезде был. Земское собрание.
– Хорошо сошло?
– Очаровательно… Что вы так смотрите?
– Вы говорите, как про спектакль.
– А чем же не зрелище? Проходит жизнь – люди, животные, дети, родители, больные, врачующие, учащие, учащиеся, прошения, проекты, предписания, ссуды, ассигновки…
– Не думаю, чтобы ко всему этому приложимо было слово «очаровательно».
– Так вы же меня спросили, как прошло собрание? Когда спрашивают, как прошел спектакль, это без отношения к содержанию пьесы.
– Ах, так вы об исполнении?
– Вот именно, об исполнении и об исполнителях.
– Так хорошо?
– Прямо очаровательно.
– Утешительно.
– И очень. Вы знаете, ни в одном деле не чувствовалось «подкладки», ни в одном обсуждении не чувствовалось «личности».
– Это не похоже…
– На что?
– Да… на прежнее, что ли… или на наши представления…
– Представления?
– О провинции, о «земском пироге»…
– Какие там ваши представления, не знаю, а что на прежнее не похоже, это точно. Я помню, что это было двадцать лет тому назад, когда собирались наши уездные тузы.
– А теперь?
– Теперь и тузов нет.
– Козыряют?
– И не козыряют.
– Нечем козырнуть?
– Не перед кем, никого не удивишь, ни с кого ничего не возьмешь. Все равны, что один, что другой.
– Другие времена?
– Другое поколение. Другая Россия.
– Революционная?
– Ничего подобного.
– Правая?
– Правдивая. Разве непременно надо смотреть справа или слева? Нельзя посмотреть сверху или изнутри?
– Из существа?
– Вот именно… Ах, как не похоже на то, что было!
– Да ведь не лучше же?
– Определяйте как хотите, а проще, легче, человечнее. Прошли те времена, когда сознание своей сословности, своего дворянства предшествовало сознанию человечности.
– Просто люди?..
– Люди как люди.
– Красный околушек все же попадается?
– Не увидите больше. Красного околушка с борзой собакой, с арапником в руке и номером «Московских ведомостей» в кармане – не увидите.
– Так что «основы потрясены»?
– Ничего не потрясено, а просто увидали, что не на том стоим; и потом, надоело же когда-нибудь людям пыжиться.
– А то пыжились? «Прямые канцлеры в отставке»?
– Даже не в отставке.
– Несменяемые?
– А то? Красный околушек разве потеряешь? С чем родился, с тем и умрешь.
– Ну а борзятничество все же есть?
– Есть и всегда будет. Но уже псовая охота не ту окраску имеет.
– Просто забава!
– Ну да. А ведь прежде, когда он выезжал, – ведь он осуществлял один из пунктов Жалованной грамоты. Как рыцарь в крестовый поход, так он в отъезжее поле.
– «Конен, люден и оружен».
– Pro fide et patria.
– А женщины?
– Женщины всегда были человечнее мужчин. Разве вы когда-нибудь в женщине замечали, что проступает, лезет вперед сословное самосознание?
– Это-то нет, но была прежде некоторая дворянская белоручность.
– Ну да, так это не сословность, а это те, кто побывали «выньстуте»; и то – только до замужества. Сколько я видал таких несчастных существ, которые выкидываются из столицы или губернии в уезд, из рекреационного зала в семью, из класса в жизнь. Без всякого интереса, без всякой приспособленности, без потребности в жизни, без умения жить. Никчемушние существа, которые ничего не умеют, как только скламши ручки скучать. И подумайте, с такими данными быть женой, хозяйкой, матерью… Но и этого больше нет.
– Другое воспитание?
– Тоже не знаю. Что вы все о причинах спрашиваете? Это была такая принцесса Ганноверская Софья-Шарлотта, тетка Фридриха Великого, синий чулок, которая изводила философов своими вопросами; Лейбниц говорил: «Она хочет знать причину причин».
– Ну так без причин: что же теперь?
– Интересы, хозяйство, воспитание, агрономия. Уж этого нет, что кто не вышла замуж – лишнее существо.
– Послушайте, это лучше, чем в столицах.
– А то разве можно сравнивать? Чем дальше от сложившихся условий, тем больше жизни. Я помню, присутствовал, как встретились в Риме, в гостиной, одна русская дама, бывшая на войне сестрой милосердия, с итальянским офицером, который был послан от своего правительства на поля Маньчжурии… Да вы знаете – Камперио…
– Который книгу написал?
– И книгу написал, и лекции читал в Италии о роли русской женщины в Красном Кресте; я был на его лекции в Риме. Я никогда ничего более восторженного и более смелого не слыхал. Перед представителями русофобской печати так прославить русскую женщину и в присутствии обеих королев так пристыдить итальянскую женщину… Он себе нажил массу врагов.
– Так вы говорите, видели, как встретились этот итальянский офицер…
– С бывшей сестрой милосердия. Это был такой взрыв радости, обмен воспоминаний, воспоминаний героических – героических для нас, а для них повседневных, – о событиях до такой степени вне всяких условий обыденности, в которых сливалась такая сумма ощущений, чувств, деяний для нас с вами неповторимых, недостижимых, что положительно казалось – только там жизнь, а здесь ничего, слякоть одна.
– Так что, чем меньше условий установленных, незыблемых, повторяющихся…
– Тем больше жизни.
– Чем шире рамка…
– Тем больше места для содержания.
– А без рамок можно ли?
– А в рамках возможно ли?
– Вот и дилемма.
– Вечное колебание в полярности.
– И вечное стремление к тому, чего нет.
– Когда рамка есть, стремление разбить ее…
– А когда ее нет, стремление создать ее.
– Уж это… Посмотрите только на американцев…
– А что?
– Да как же. Сословий не имеют – выдумали себе дворянство: кто приехал на первом корабле из Англии – знаменитый «May Flower». Но если бы действительно все на нем разместились, кто претендует, корабль бы ко дну пошел, не только не дошел бы, а и не вышел бы. В Нью-Йорке создали себе аристократию.
– Знаменитые «400»?
– У одной чикагской барыни я спросил: «Вот в Нью-Йорке четыреста, а сколько в Чикаго?» Она подумала минутку и сказала: «Я думаю, что нас восемьдесят». Тогда я подумал, что, идя все дальше на запад, я, наверно, приду в глухое местечко, где встречу девочку, которая на мой вопрос: «Сколько вас?» – ответит, как в известном стихотворении: «Нас семеро».
– Но вы ей этого не сказали?
– Нет, но я это говорил в публичных лекциях, и надо отдать им справедливость, они отлично принимают шутку. Они ничего так не любят, как чтобы ими занимались. И, если позолочена, всякую пилюлю принимают.
– Но какой ужас американизм.
– Оскорбителен.
– И как распространяется.
– Диккенс сказал: «Миссия Америки в том, чтобы опошлить вселенную».
– И Америка свою миссию исполняет.
– Да, Европа превращается в гостиницу для американцев.
– У нас не знают этой стороны американизма.
– Изучить не на чем. Одно только и знают – «страна свободы». А как задыхаются те, кто туда попадает. Там не умеют жить; за вечной охотой на деньги они не видят жизни. Мне всегда казалось, что какой-нибудь лабазник у нас в уездном городе, сидя на завалинке после трудового дня, смотря, как в пыльном облаке, позлащенном вечерней зарей, возвращаются с водопоя коровы, больше наслаждается, чем господин Пульман, купаясь в своих миллионах.
– Никакой мягкости, никакой уютности.
– Не в характере. Даже когда желание есть, не умеют. Однажды в Чикаго в одном доме меня просили после обеда сесть за фортепиано. Сыграл что-то, не помню что. «Пожалуйста, сыграйте русский гимн». Только раздались первые аккорды «Боже, царя храни», вижу, хозяин, лукаво подмигнув, подходит к камину, снимает какой-то предмет и несет ко мне: «Вот, чтобы вам чувствовать себя совсем как дома». И передо мной на пюпитре образ Божьей Матери – от Овчинникова.
– Никакой перспективы – ни исторической, ни психологической.
– Все плоско, все близко, до всего можно дотронуться пальцем.
– Как не похоже на русский характер!
– Никогда не забуду впечатления. Раз в Нью-Йорке мне передали приглашение на вечер в незнакомый дом – хозяйка русская и жаждет видеть русского. Прихожу – встречает меня статная старуха. Оказывается – внучка последней грузинской царицы, замужем за доктором. Она увлекла меня в угол… Лились воспоминания и излияния – я никогда от незнакомого человека не слыхал столько поведанного близкого, частного, личного. Я затруднился бы что-нибудь вспомнить; я знал, что это мне говорилось не для того, чтобы я запомнил: есть речи, в которых важно устье, в других важен исток. Я слушал, не слыша; я помню только «Кавказ… царица… институт»; я помню беспокойный веер, помню на черном платье, вместо брошки, бриллиантовое «А» – фрейлинский вензель императрицы Александры Феодоровны, и я помню никогда так ясно не испытанное ощущение клетки… Как крыло, бился черный веер…
– Кавказские горы в нью-йоркской тесной квартирке…
– А то помню, в еврейской школе рабочего квартала в Чикаго – маленькие девочки, только что приехавшие из России. Я с ними заговорил по-английски – еще не умели, заговорил по-русски – слезы помешали…
– Забудут?
– Надо надеяться… И со всем тем, хотя после Америки я видел такие сказки человечества, как Индия, Цейлон, Каир, – когда я вернулся домой, ярче всего передо мною стояли американские воспоминания: свистки, колеса, грохот, гудение – и спешка, вечная спешка, отсутствие праздности, отсутствие отдыха, движение вперед, безжалостное отсутствие оглядки. Вам случалось когда-нибудь в детстве попадать на фабрику с колесным гудением – молоты, поршни, ремни, огнедышащие жерла, – и вдруг вы потеряли старших?.. Вот такое первое впечатление. Потом свыкаешься. Вокруг вас бегут, и вы бежите: поневоле побежишь, если отстать не хочешь.
– Так что сказки поблекли?..
– Поблекли перед рекламными афишами. Сказка – прошлое, реклама – будущее. Америка – окно в будущее.
– И неприятно смотреть в это окно?
– Художник содрогнется, философ покачает головой.
– А историк?
– Историк все возьмет.
– Не брезглив?
– Так же мало брезглив, как индус из касты чистильщиков.
– Не понимаю.
– В Индии люди, исповедующие религию Брамы, на касты разделяются, вы знаете?
– Знаю.
– Ну вот, самая низшая каста – чистильщики.
– Так не брезгливы?
– Ведь и брезгливость понятие относительное. Вы допьете стакан, из которого хлебнул другой?
– Зависит, кто.
– Ну вот видите, а у индусов нет большего унижения: там перед харчевнями груды черепков лежат – разбитые глиняные чашечки: каждый, выпив, разбивает, чтобы другому не досталось.
– Как мы с зубочистками делаем.
– Ну вот, такая же психология, только там это связано с религией… Так я забыл про это и однажды на прогулке полюбопытствовал хлебнуть какого-то туземного напитка; не понравилось мне, и я в невинности предложил допить своему проводнику. Надо было видеть, с каким негодованием все присутствующие отшатнулись. Вдруг кто-то из них, видя мое замешательство как человека, ищущего, куда освободиться от предмета, крикнул: «Вот, ему отдайте». Проходил чистильщик. Я протянул ему чарку, он взял и стал пить. Надо было видеть презрение, с которым окружающие, молча, как за зрелищем, следили за его движением. Он выпил. Бросил и он свою чарку оземь, вероятно, чтобы после него собака не выпила. Обтерся, поклонился. Кто-то, махнув рукой, сказал: «Выпил». Окружающие вышли из оцепенелого внимания. Чистильщик пошел своей дорогой… Но я никогда не слыхал в устах человека большего презрения к человеку, чем этот возглас «выпил».
– Собака, едящая падаль?
– Хуже.
– Одну сказку расскажите, только одну.
– Одну сказку? Это было на Цейлоне. Японские буддисты привезли в дар цейлонским древнюю статую Будды. Я с ними ехал из Сингапура на одном пароходе; и вместе же ехал, возвращаясь из Чикаго, где он был представителем Цейлона на конгрессе религий и где я с ним познакомился, буддийский проповедник, некий Дгармапала. Он меня пригласил на другой день по приезде в Коломбо, главный город Цейлона, принять участие в празднествах встречи и перенесения статуи в храм. Другой такой картины я не помню наяву, как на следующий день, когда часам к шести вечера собрались у пристани и понесли эту статую между шпалер туземных женщин и мужчин. Проходили под пальмами, сыпались цветы, одежды колыхались, развевались бледные радуги кисейных покрывал. Лентою вилась смуглая толпа, и, как огромные цветы нераспустившихся пионов, стояли пестрые чалмы над мягкой прихотью женских уборов. Так шли, и за толпой меж пальм сияло море… Пришли к воротам, за которыми лужайка, и на ней раскинутые павильоны – храмы на белых колоннах, без стен. Перед средним храмом, в желтых хламидах через плечо, – все жрецы с верховным жрецом впереди: прямо хор из оперы. Меня представляют, я кланяюсь, верховный жрец смотрит в сторону; я кланяюсь вторично – он смотрит в другую; я кланяюсь в третий раз – меня не замечают. Один из спутников наклоняется над моим ухом и говорит: «Не удивляйтесь, это закон: служитель Бога всем людям брат; поклониться каждому человеку на земле он не может, а одному – несправедливо». Пока шли приготовления к молитвенному собранию, вошли в помещение верховного жреца. Со мной беседовали через переводчика. Обрадовались, узнав, что в университете я был учеником профессора Минаева, – с ним были лично знакомы, его знания и труды по санскритскому языку ценили высоко… Пошли в храм. Начались речи, приветствия и ответы. Я сидел на эстраде среди почетных гостей, верховный жрец сидел тут же. Я ничего не понимал из того, что говорилось на бенгальском и японском языках, и смотрел на удивительную картину сидящих на полу, закутанных в кисею женщин, на стоящих у колонн мужчин, на висящие лампады, на звездную ночь в промежутках между колонн и на высокие пальмы в ночи… Вдруг над моим ухом по-английски шепот: от имени верховного жреца меня просят сказать слово.
– Сказали?
– Сказал. Сказал то, чем приветствовал конгресс религий в Чикаго. Знаете историю старухи и луковки?
– Нет, не знаю.
– Из «Братьев Карамазовых». Была одна старуха, великая грешница – мучилась в аду. Однажды увидала, высоко в лазури небесной пролетает ангел. Возопила. Ангел остановил полет, приник. «Будешь пред лицом Всевышнего, скажи, что есть такая старуха, которая испытала больше, чем вытерпеть можно. Не будет ли милость Господня облегчить ее страдания». Полетел ангел, доложил. «Узнай, – сказал Господь, – есть ли за ней хоть одно доброе дело на земле». Вернулся к старухе. «Да, – говорит, – раз я нищему луковку подала». Опять доложил ангел. «Возьми луковку, – сказал Господь, – протяни ей, пусть ухватится, а ты тащи: выдержит луковка – спасена будет». Ангел так и сделал. Старуха ухватилась, ангел стал тащить – старуха стала из огня подыматься. Только вдруг замечает: за ноги к ней другой грешник прицепился; однако луковка выдерживает. Ангел тянет, они выше; смотрит – еще грешник, а там еще и еще: целая цепь висит, за ноги ее держатся. Страшно сделалось старухе, начала она брыкаться – не отстают, а все больше их. Тогда со всей силы крикнула: «Отстаньте, луковка-то ведь моя!» Только сказала – стебелек сломился, и все обратно в огнь вечный полетели. Из этой истории вывести маленькое нравоучение, что все хорошее на земле принадлежит всем, что хорошее есть везде и у всех и т. д., – это уже было нетрудно.
– Ну да, что Гёте пишет Карлайлю: «Истинно прекрасное принадлежит всему человечеству». Кончайте скорей ваш рассказ – оркестр настраивает скрипки, и сейчас нельзя будет слушать.
– Кончаю. Пока я говорил по-английски, туземец переводил на бенгальский. Я, следовательно, кусочек говорил, выжидал перевода и продолжал. Очень было занимательно при этом наблюдать, как во время моей английской речи смеялись те немногие, что понимали, как их смех подстрекал внимание тех, что не понимали, и как после перевода разражалась смехом вторая, многочисленная группа, да и первые уж заодно еще раз. Но когда я кончил, когда умолкли знаки одобрения, произошло нечто невероятное: верховный жрец встал, подошел ко мне и при всем народе протянул мне руку. Над ухом англичанин прошептал: «Никогда не видел, чтобы он этакую вещь сделал». Вот вам моя сказка.
– Как раз вовремя кончили: со своим ползучим, змеиным подходом подкралась и грянула «Матчишь». Какое другое существо на земле, кроме человека, способно выдержать такие перемены температуры: буддийский Цейлон и «Матчишь»?
– А какое другое существо на земле, кроме человека, способно во время завтрака совершить кругосветное путешествие?.. Вы знаете, что в пустыне, в Африке, арабские мальчишки, погонщики ослов, напевают «Матчишь».
– Уж там авторское право не догонит. А где вы видели пустыню?
– В Египте, в Тунисе.
– Тоже сказка?
– Колыбельная, верблюд – колыбель.
– А похоже – Каир и Тунис?
– Совсем другое. Каир железно-красный, Тунис белый.
– А толпа?
– В Каире – синяя.
– А в белом Тунисе?
– Что хотите. Идет перед белой ослепительной стеной арап, черный, черней черного, в светло-зеленом бурнусе, большой вырез на черной груди перерезан белой рубашкой; вдруг запускает свои обе черные лапы за пазуху и из-за пазухи зеленого бурнуса в черных лапах вытаскивает два апельсина.
– Вижу… А что, большое удовлетворение в путешествии?
– Удовлетворение? Разве на земле бывает удовлетворение? Чем больше видишь, тем больше хочется видеть, и чем больше нравится то, что видишь, тем больше хочется видеть то, чего не видишь. На Цейлоне растет «тюльпановое дерево» – огромный ствол у земли как будто несколько раз закручивается вокруг себя, сам себе делает пьедестал и потом, как гладкая серая колонна, подымается вверх под развесистую шапку; на ней висят и с нее падают огромной величины красные цветы – цветочные бокалы, воланы из пурпуровых лепестков: прямо «Парсифаль». И что же? Под этим куполом, у подножия растительной колонны, на земле, усеянной тюльпанами, среди невероятной красоты этой непонятной природы вставала в душе и тянула к себе убогая прелесть убогого взморья: под уходящею волной лоснящийся песок.
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца.
– Понимаю… Не только «на севере диком» сосны грезят о пальмах…
– Но и пальмы грезят о морозной пыли и о небесных заревах, ложащихся на сталактиты обындевелых сосен…
– А что, пустыню можно себе представить иначе чем арабскою? Я не могу.
– И я не могу. Но когда-нибудь и она была другою, как и все на земле. Между Тунисом и Сфаксом есть посреди пустыни римский цирк, гигантский.
– И ничего кругом?
– Кактусы; пустыня, колизей и кактусы.







