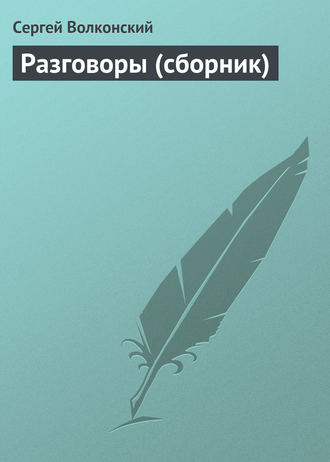
Сергей Волконский
Разговоры (сборник)
– Да, если есть фигуры, ждущие оценки, то Бенкендорф ждет переоценки.
– Я бы почти сказал, что он ждет своей апологии.
– Может быть. Фигура удивительно благородная: что-то ясное, непоколебимое, отсутствие сомнения. Он был из породы основателей городов, из тех, чье желание не умирает после смерти. Его знаменитый Фалль под Ревелем – это целое огромное создание, художественно единое, возникшее из ничего, сразу, по приказанию. Вот только династии он не основал.
– А теперешние графы Бенкендорфы?
– От племянника, он просил государя ему передать титул, от которого сам уже два раза отказался, так как не имел сыновей: у него было три дочери. Но как странно, не правда ли, что, пойдя по женской линии, Фалль перешел в род Волконских.
– По жене?
– Нет, жена его была Донец-Захаржевская, а – по дочери.
– Старшая дочь была за Волконским?
– И это нет, старшая, Анна Александровна, была за венгерским графом Аппони и должна была отказаться от унаследования майоратом, а вторая, Мария Александровна, за светлейшим князем Григорием Петровичем Волконским, сыном фельдмаршала и «знаменитой» Софьи Григорьевны.
– И значит, по матери, родным племянником декабриста?
– Угадали. Браво, вам надо поступить в генеалогическое общество. Его женитьба прелюбопытная…
– Чья женитьба? Волконского?
– Бенкендорфа.
– Ну так постойте, сперва третья дочь.
– Третья дочь была сперва за Демидовым, потом за князем Кочубеем, владетелем Диканьки.
– Ага. Ну так теперь женитьба Бенкендорфа. Она была Захаржевская?
– Постойте, не торопите. В Харьковской губернии, в старой усадьбе по имени Большие Водолаги жила Мария Андреевна Дунина, урожденная Норова. Сама мать многочисленного семейства, она взяла еще на воспитание двух дочерей своей сестры Захаржевской. Старая наседка, Мария Андреевна широко распространяла патриархальное владычество своих мягких, но и крепких крыльев. Дочери, племянницы выходили замуж, но яблочки недалеко падали от яблони, и вокруг большого дома с каждой новой свадьбой вырастал новый дом. Весь Харьков ездил на поклон в Большие Водолаги. Однажды в Харьков приезжает высочайше командированный молодой флигель-адъютант Александр Христофорович Бенкендорф. Ему говорят: «Вы, конечно, будете у Марии Андреевны Дуниной». – «У Марии Андреевны Дуниной?» – «Как, вы не будете у Марии Андреевны Дуниной?» Он увидел такое изумление на лицах, что, не теряя ни минуты, сказал: «Конечно, я буду у Марии Андреевны Дуниной». Он поехал. Сидят в гостиной; отворяется дверь, и входит с двумя маленькими девочками женщина такой необыкновенной красоты, что Бенкендорф, который был столь же рассеян, сколько влюбчив, тут же опрокинул великолепную китайскую вазу. Когда положение обрисовалось, Мария Андреевна нашла нужным собрать справки. Фрейлина Екатерины Великой и поддерживавшая переписку с императрицей Марией Феодоровной, она за справками обратилась не более не менее как к высочайшему источнику. Императрица вместо справки прислала образ.
– А две маленькие девочки?
– Дочери от первого мужа, Бибикова, убитого в двенадцатом году: одна – будущая баронесса Офенберг, а другая, Елена Павловна, сперва княгиня Белосельская, а потом княгиня Кочубей.
– Как, княгиня Елена Павловна, дом Белосельского на Невском?
– Дворец великого князя Сергея Александровича.
– Гофмейстерина при Александре III?
– Да, да, отчего вы так удивляетесь?
– Да так это вдруг приблизилось. То Екатерина Великая, а то вдруг дом Белосельского, куда ездили в детстве к заутрене, на елку…
– Да ведь так мало нужно людей, чтобы покрыть столетие. Моя прабабушка говорила матери, что, когда она была ребенком, одна жившая в их доме древняя старушка ей сказала: «Всякий раз, как ты увидишь этот цветок, ты вспомнишь про меня». Я сделал подсчет: эта старушка родилась по меньшей мере при Елизавете, а то и раньше. Значит, немного уж до двухсот лет, а я только четвертые уста или даже, если хотите, – третьи уши.
– Какой цветок? Я тоже как-нибудь передам.
– Такой высокий, с розовой метелкой, растет в сырых местах. В Фалле его много. Да вы можете выбрать свой цветок, зачем вам непременно…
– Нет, я не хочу быть родоначальником, я хочу воспользоваться готовой преемственностью.
– Как мы любим примыкать, как мы любим прислоняться, как мы любим «продолжать», как мы не любим «начинать»!
– Да, только Наполеоны «начинают».
– Во всякой работе и во всяких отраслях это так. Вы знаете, Бальзак говорит о литературном труде: «Его покидаешь с сожалением, к нему возвращаешься с отчаянием». И я бы не устроил все это, если бы не было к чему прислониться, не было что «продолжать».
– «Портретную» вы устроили?
– Да, ее прежде не было. Я собрал все, что нашел по прямой восходящей линии. Конечно, копии, ведь надо было брать из разных домов, у близких и дальних родственников.
– И вы взяли и привезли под сень ваших дубов?
– Привез под сень. И прямая линия, как видите, восходит довольно далеко. Вот портрет отца, увеличенный с акварели, сделанной в Париже в год свадьбы, в 1859 году. Вот его мать, княгиня Мария Николаевна, рожденная Раевская, жена декабриста. Вот ее мать, Софья Алексеевна Раевская, рожденная Константинова, – с портрета Боровиковского; она в белом ампирном платье с орденом Св. Екатерины; на ней черный парик, потому что портрет писался, когда у нее после тифа были обстрижены волосы. Вот теперь ее мать, дочь Ломоносова; портрет, к сожалению, не с натуры, а по бюсту, сохранившемуся у моей тетки, Ольги Павловны Орловой, рожденной Кривцовой, в ломоносовском имении Рудицах под Ораниенбаумом. И наконец, вот Ломоносов. Пять поколений; это самая длинная линия, которую мне удалось составить. Была бы она еще длиннее, от отца до матери Потемкина – шесть поколений, но не хватает одного звена.
– А где вы откопали мать Потемкина?
– На Таврической выставке она была; я просил у владелицы портрета, графини Браницкой, позволения скопировать его.
– Какое родство?
– Сестра Потемкина была за графом Самойловым, а дочь Самойлова, Екатерина Николаевна, – за Раевским, мать смоленского. Вот ее портрет с Боровиковского. Таким образом, все многочисленные племянницы Потемкина были тетками моей бабушки. Она упоминает в записках тетку Браницкую, «которая жила богатой и влиятельной помещицей», у которой на пути из Каменки в Петербург она останавливалась в Белой Церкви.
– Да, конечно, знаменитая красавица Браницкая-Энгельгардт, – чудный портрет Бромптона.
– Чудный портрет Бромптона – это для дальнего потомства, а ближнее знало лишь ее невероятную скупость.
– Не правда ли, тут есть еще родство с Давыдовыми?
– Как же, после Раевского Екатерина Николаевна, рожденная Самойлова, вышла вторым браком за Давыдова. Это были две многочисленные семьи; жили в Каменке – очаг декабризма, – где Пушкин бывал, где написал «Кавказского пленника». Давыдовых было много. Старший сын, Петр Львович, был женат на графине Орловой, и его сын получил титул Орлова-Давыдова. Александр был женат на дочери маркиза Грамона. Его сын был прекрасный скрипач, обладатель знаменитого «Страдивариуса»; он был первым мужем фельдмаршальши Барятинской. Василий Львович Давыдов, декабрист, был женат на неизвестной, воспитаннице своей матери, Александре Ивановне, которая последовала за мужем в Сибирь. Их сын, Лев Васильевич, был женат на Чайковской, сестре композитора, и сыну их Владимиру, бедному, милому Бобу Давьщову, покончившему самоубийством в Клину, в усадьбе, перешедшей к нему от Петра Ильича, посвящена Шестая симфония…
– Как близко опять стало, точно выехали на большую дорогу.
– «Выходим, чтобы снова взглянуть на звезды»… В Каменке, у Екатерины Николаевны Давыдовой, жила еще другая воспитанница, дочь дворецкого. Она была на правах члена семьи, но когда за обедом отец ее, подавая блюда, доходил до нее, она должна была вставать и целовать ему руку. Она вышла замуж за Стояновского и была матерью известного в Петербурге сенатора, члена Государственного совета, вице-председателя Русского музыкального общества и проч. Вот вам родство с Потемкиными и близость с Давыдовыми.
– Какого же звена недостает у вас?
– А вот есть мать Потемкина, видите, эта старушка в чепце, которая рукой сдвинула свой бурнус, чтобы показать осыпанный бриллиантами портрет императрицы Екатерины; есть племянница Потемкина – Раевская, рожденная Самойлова, а нет сестры Потемкина; понимаете, у меня бабушка и внучка, а дочери нет, и нигде не мог найти Самойлову, урожденную Потемкину.
– Ну а другие линии?
– Все только по четыре поколения. Вот отец, вот декабрист.
– Этот портрет князя-декабриста я знаю, это с Дауского портрета, который в галерее 12-го года в Зимнем дворце.
– Да, он был в 1826 году, по повелению Николая I, удален, а в 1903 году директором Эрмитажа, Иваном Александровичем Всеволожским, найден на чердаке Зимнего дворца и по высочайшему повелению водворен на место.
– Так что портрет «возвращен из ссылки» 47 лет позднее, чем оригинал?
– Оригинал?
– О, простите, я без каламбура.
– Но представьте, что сама жизнь с каламбуром. Он в самом деле был оригинал, как ни странно прилагать это слово к таким людям. Какая-то смесь наивности и педантизма. Он очень любил огородничество, изучил его в ссылке и по возвращении им увлекался. В Малороссии, в деревне у дочери, где он жил последние годы, где и умер и похоронен, у него был свой огород; он не был обнесен ни рвом, ни забором, но ход в него был через ворота, и ключ от ворот он носил в кармане. Когда его сыну, моему отцу, пятнадцатилетнему мальчику, захотелось прочитать «Евгения Онегина», он отметил сбоку карандашом все стихи, которые считал подлежащими цензурному исключению; можете себе представить, как это было удобоисполнимо – при легкости пушкинского стиха перескакивать строчку. Разве не оригиналы мой дед и Поджио, в ссылке проводившие долгие часы в спорах о титуле. Поджио, как «вольтерианец» доказывающий, что титул – ничто, а мой дед, объявлявший, что если он подписывается «Сергей Волконский», то единственно из уважения к воле своего государя, а на самом деле ничто не может его лишить того, с чем он родился.
– Да уж если на то пошло, то в семье вашей оригиналы не переводились. Вот вы говорите о декабристе и о его сестре-фельдмаршальше, а отец их Григорий Семенович – ведь это я читал в книге вашей матери «Род Волконских», – как он в Петербурге каретой цугом на базар выезжал и на обратном пути сзади кареты, по обеим сторонам ливрейных лакеев, висели гуси и поросята…
– Да, это было смешно, но это было для раздачи бедным, и он же заслужил от Суворова, под начальством которого воевал, наименование «неутомимого Волконского». Вот он, в изображении Боровиковского, с Библией под сложенными руками. Очень набожный и страстный любитель старой итальянской музыки – Палестрины, Марчелло, Паэзиелло.
– Да ведь это мы говорим «старая итальянская музыка», а для них это была современная. Паэзиелло! Паэзиелло написал по заказу Екатерины Великой своего «Севильского цирульника» для Эрмитажного театра.
– Правда, не «старинная». Это то, что один мой приятель называет перестановка точки зрения во времени.
– А этот огромный портрет на лестнице? Какое уморительное полотно!
– Это отец предыдущего – Семен Федорович, елизаветинский генерал-аншеф и кавалер всех российских орденов, в княжеской мантии и пудреном парике, на коленях перед своим святым, Симеоном Столпником, который руками разводит, смотрит на Бога Саваофа, сидящего на облаках, и как будто говорит ему: «Я за него ручаюсь».
– Какая шутка XVIII столетия.
– Не правда ли, какой рококо. Это висело над его первой могилой в московском Греческом монастыре. Вероятно, вдова заказала. Она была Мещерская, и похоронена в московском Донском монастыре.
– Ах, да я отлично знаю прелестный надгробный памятник княгини Волконской, работы Мартоса.
– Впоследствии она перевезла прах мужа в Ярославское имение, Никольское; там же лежит дочь его, Софья Семеновна, разбитая лошадьми. У меня есть и ее портрет, тоже надгробный, со Св. Софьей – «заступницей, молящей Бога о нас». Ужасная уродка. Покойный отец всегда говорил, что лошади, наверно, оттого понесли, что оглянулись. У этого Семена Федоровича был брат Сергей Федорович, женатый на Чаадаевой (мать их была Еропкина); у этого Сергея Федоровича был сын Николай, блестящий, красивый, – есть чудный портрет его, работы Лампи, у князя Анатолия Куракина. За этого Николая Сергеевича Волконского Потемкин хотел отдать одну из многочисленных своих племянниц, но Волконский ответил: «На твоей… не женюсь». Потемкин выдал племянницу за Голицына…
– Тоже портрет Лампи – в круглой зале Таврической выставки?
– Да, принадлежит баронессе Врангель, рожденной Голицыной, в ее знаменитом имении Казацкое. Ну-с, а Николай Сергеевич женился на Трубецкой и имел дочь Марию, которая, выйдя за графа Николая Толстого, принесла ему в приданое Ясную Поляну.
– Значит, мир лишился бы Льва Толстого, если бы племянница Потемкина не была…?
– Маленькие причины и большие следствия. Этот Николай Сергеевич, дед Льва Толстого, послужил образом для старика Болконского в «Войне и мире». Мой дед однажды, в молодые годы, встретил в Москве старика. «Знаю, молодой человек, уже давно знаю, что вы в Москве». Упрек за несоблюдение родственной почтительности. Старик приходился двоюродным братом отцу декабриста, Мария Николаевна Толстая – троюродной сестрой моему деду. Вы знаете, что за свой ответ Потемкину и непочтительный отзыв о его племяннице Николай Сергеевич был сослан на остров Грумонт – кажется, в Белом море, – и, когда он вернулся, он, в память своего пребывания в рыболовной местности, около Ясной Поляны вырыл большой пруд, в который напустил великолепной рыбы; место он назвал именем места ссылки – Грумонт. В крестьянских устах имя исказилось, и теперь это деревня Угрюмы.
Граф Лев Львович Толстой говорил мне, что рыба до сих пор не перевелась…
– Ну-с, теперь на эту сторону перейдем.
– Это сторона моей матери. Ее родители. Светлейший князь Григорий Петрович Волконский, сын фельдмаршала; портрет поясной, взят с большого портрета во весь рост, находящегося в Фалле, – он сидит за фортепиано; работа госпожи Макушиной, урожденной Колонтаевой, она была свояченицей некоего Грегера, который заведовал делами фельдмаршальши. Этот Грегер не пользовался симпатиями некоторых членов семьи. Он был удивительно хорош собою, и когда семейные чересчур приставали к старухе, указывая, что дела расстраиваются, она говорила: «Зато в моих имениях раса улучшается». А портрет бабушки Марии Александровны, рожденной Бенкендорф, – неизвестного, тоже из Фалля; романтический портрет – готическое кресло и столик – из «колонной комнаты», а в окно виден фалльский вид – «домик рыбака» и взморье.
– В руке письмо, а на столе распечатанный конверт с красной печатью…
– Вот над камином деды матери: фельдмаршал, его жена, сестра декабриста, «знаменитая» Софья Григорьевна, и Бенкендорф с женой.
– А правда, что по портрету Боровиковского Софья Григорьевна красива. Как красивы эти жемчуга на голой руке выше локтя. А в руках она держит…
– Рельефный медальон своего деда, фельдмаршала Репнина. Вот он в арке, а напротив – его жена.
– Два фельдмаршала в одной семье! Это, как говорят наши молодые люди, которые в немногих словах хотят сказать много, – здорово.
– Да, вам ясно родство? Вы видите: декабрист – внук по матери фельдмаршала Репнина и шурин фельдмаршала Волконского. Ведь вы знаете, он двадцати двух лет был генералом. Не помню, кто в записках упоминает, какая-то дама: сидели в ложе, вдруг входит Волконский в шинели. «Почему вы не снимаете шинели?» – «Из скромности». Он распахнулся – грудь была усеяна орденами. И дама прибавляет: «Кто бы мог подумать, что через несколько лет…»
– А жена фельдмаршала Репнина?
– Вот, напротив мужа в арке. Пудреная, с жемчугами в волосах.
– Ого, лента Св. Екатерины!
– Да ведь ее дочь, мать декабриста, гофмейстерина, – тоже Екатерининская лента. А кавалерственные дамы – все четыре прабабки: обе бабки отца – Волконская-Репнина (гофмейстерина и мать декабриста), Раевская-Константинова (внучка Ломоносова, теща декабриста) и обе бабки матери – светлейшая Волконская (сестра декабриста, жена фельдмаршала) и графиня Бенкендорф. В те времена, оттого ли, что времена принадлежат истории, – но в те времена Екатерининский орден имел более, если можно так выразиться, сподвижнический характер… Что вы в раздумье смотрите?
– Я смотрю, как это у вас хорошо размещено: двое родителей, четверо дедов…
– И что же?
– А дальше, значит, было восемь прадедов, шестнадцать прадедов, тридцать два прапрапра…
– И что же?
– И я думаю…
– Что?
– Как это все ведет к одному Адаму?
– О, я об этом стараюсь не думать.
– А чьей работы портрет фельдмаршальши Репниной?
– В семье всегда слыл за Лампи – так отец слышал от своего отца. Ведь вы знаете, эти оба портрета – Репнина и его жены – были в Сибири. Дед боготворил память своего деда. У нас сохранилось великолепное бюро, жакоб, письменный стол фельдмаршала Репнина; и мой дед ребенком сидел в конурке под столом, пока его дед занимался. Это бюро мой отец спас от продажи на рынок, его двоюродный брат Репнин почему-то хотел от него отделаться.
– Так портрет фельдмаршальши Репниной работы Лам-пи, говорите вы?
– Я вам говорю, так всегда говорили, но ни подписи, ни документов не было, а лет восемь тому назад мой дядя, князь Николай Васильевич Репнин, сказал мне: «Да у меня в Яготине вся переписка по поводу этого портрета и счет Лампи». – «Предпочитаю, чтобы у вас был счет, – сказал я, – а у нас портрет».
– Кто была княгиня Репнина, жена фельдмаршала?
– Дочь Александра Борисовича Куракина, а ее мать – Панина, сестра Петра и Никиты. Вот и ее портрет с портрета Гроота, принадлежащего Елизавете Алексеевне Нарышкиной.
– Кажется, мы всех обошли. Только про вашего материнского деда, светлейшего князя Григория Петровича, вы ничего не рассказали.
– Тоже «оригинал». Весь в родителей: его мать, сестра декабриста, – «знаменитая» Софья Григорьевна, его дед – Григорий Семенович.
– Гуси и поросята?
– Гуси и поросята, молитва посреди улицы… Но среди гусей и поросят были и Палестрина, и Паэзиелло. И мой дед взял и приумножил эту сторону наследия. Он был выдающийся музыкант. За великолепный его бас его прозвали «второй Лаблаш». Он был другом братьев Вьельгорских, князя Одоевского и всей этой группы дилетантов, которыми музыка в России держалась, пока не пришли наши настоящие великие музыканты. Внизу вы, может быть, видели портрет тенора Рубини с посвящением «Дорогому другу князю Григорию Волконскому». Это была большая дружба; его влекло искусство, влекли артисты. Удивление моей бабушки однажды, когда, сидя в ложе своего свекра, министра двора, она вдруг среди хористов узнает своего мужа. В Риме, где он жил долгие годы в palazzo Salviati и имел официальный титул покровителя русских художников, его дом был единственным частным домом, куда папа Пий IX отпускал петь певчих Сикстинской капеллы.
Это был тип аристократической богемы. Без всяких границ; с удивительною стойкостью правил на бумаге, философско-житейскими принципами в широковещательных письмах, писанных педантическим почерком, педантически изложенных, синим карандашом, всегда по-французски. В отличие от своей матери – необыкновенно щедрый и расточительный. Он никогда не покупал поштучно, всегда дюжинами. Он был добр и мягок. Когда он был попечителем Петербургского учебного округа, Николай Павлович часто присылал к нему студентов, замеченных на улице в каком-нибудь упущении по форме. Вместо того чтобы отсылать их в карцер, он приводил их к жене. Бабушка говорила, что много раз она поила чаем студентов-арестантов; в числе их был, между прочим, будущий статс-секретарь Перец. Супружество не было счастливо. Увлекающийся, он подпал под влияние и, слабовольный, последние двадцать лет жизни прожил в полном разобщении с семьей. Однажды, в первый год после смерти бабушки, он выразил желание повидать внуков. Мы с матерью поехали в Одессу, где он проводил осень, приезжая из своего имения под Аккерманом. Старик как будто заинтересовался новым знакомством. Проводил с нами вечера, рассказывал, но больше расспрашивал о тех, кого так давно не видал… Раз мы его упросили спеть; он спел «Adieu» Шуберта…
– Как – спел?
– Ему было семьдесят лет… Он рассказал по этому поводу любопытную вещь. Он уверял, что это достоверно, что он был в то время в Париже. Однажды приходит к одному парижскому издателю оборванный молодой человек и приносит нотную рукопись. «Ваш романс очень мне нравится, но вас не знают, вы не имеете имени, я не могу вам ничего за него дать, а сами если вы напечатаете, он еще менее разойдется».
– Обычный безвыходный круг: чтобы напечатали, надо быть знаменитым, чтобы быть знаменитым, надо печататься.
– Молодой человек в отчаянии: «Я умираю с голоду». – «Вот что сделаем: спросим у Шуберта позволение выпустить романс под его именем – нарасхват пойдет». – «Согласится?» – «Согласится». Так вышел в свет «Adieu» Шуберта. Мы пробыли в Одессе шесть дней. Однажды мы, старшие два брата, проводили деда до его квартиры; он пригласил нас подняться к нему. На столе было приготовлено два прибора. Когда мы вошли, из соседней комнаты просунулась рука и захлопнула дверь. Неловкое молчание. Мы пожелали покойной ночи. На прощанье дед подарил каждому из шести внуков по 500 рублей. Через два месяца мы услышали, что он вступил во второй брак. На подаренные дедом деньги я приобрел себе орган фирмы Estey.
– И все-таки не все.
– Что же еще?
– А фельдмаршал?
– Ну это уж история, это не семья. Основание Главного штаба, взятие Парижа. Потом, его совершенно исключительное положение при Николае Павловиче…
– Правда, оба ваши прадеда – Волконский и Бенкендорф…
– Да, во флигеле я даже сделал комнату «Николаевскую» – портреты, бюсты, все одно к одному: готики подпустил – никто не скажет, что я устроил, всякий подумает, что досталось в наследство… Ну, довольно предков, идем «под сень дубов…»
– Нет, нет, постойте. Портрет фельдмаршала чьей работы? Это хороший портрет.
– Нашел на рынке, в ужасном виде был. Я думаю, не самого ли Крюгера, поясное повторение большого портрета, что в Зимнем дворце… Ну, идем…
– Постойте. Еще эти два боярина.
– Один – Волконский, участвовавший в избрании царя Михаила Феодоровича, а другой – подписавший Уложение царя Алексея Михайловича.
– Откуда достали?
– Оригиналы у князя Голицына-Прозоровского в Зубриловке, то есть были в Зубриловке, а теперь не знаю, ведь Зубриловка разрушена… Ну, идемте же.
– А почему у Голицына-Прозоровского?
– Потому что бабка его была Волконская, дочь Михаила Никитича, московского главнокомандующего… Ну довольно же предков. Хотите покататься на автомобиле?.. Можем, не выезжая из парка, по счетчику сделать шестнадцать верст.
– Ну что такое на автомобиле шестнадцать верст? Со скоростью тридцати – полчаса. А ведь катаются люди для того, чтобы время убить, а не пространство.
– С тех пор что я занимаюсь Далькрозом, прямо отвертеться не могу от времени и пространства.
– Да ведь «время, пространство и различимое в них – вот все, что называется природой и будет так называться, пока по черной земле ходит человек». Это сказал китайский мудрец.
– Вы правы, и он даже прибавляет: «Это давно знают мудрецы и дети»… Ну хорошо. Мы занимались тем, что убивали время, пока говорили о предках, а теперь…
– Да вовсе не убивали, я и потребности не ощущал убивать его.
– Не о том «убийстве» я говорю, которое имеет скуку подстрекателем и праздность сообщником, а об убиении в смысле упразднения. Разве мы не упраздняли время, когда жили в том, что происходило столько времени тому назад?
– Да, вы разумеете то убийство времени, которое имеет память подстрекателем и отзывчивость сообщником?
– Так пойдемте же теперь убивать пространство. Отставить катание в парке – по большой дороге!
– Идет.
– По шестьдесят в час!
– Идет!
– И если, сидя в автомобиле, наслаждаясь убиением пространства, мы возобновим наш разговор и будем упиваться двойным убийством, разве не прав будет философ, сказавший, что пространство и время не что иное, как категории нашего мышления?
– Прав, прав! Истребление пространства, уничтожение времени, утверждение своего «я»!
– Просветление в точке?
– Да, да!
– Встреча «откуда» и «куда»?
– Да!
– Их слияние в одном «где»?
– И его слияние с «когда»!
– Слияние – полное?
– Совмещение!
– Совмещение – конечное?
– Осуществление!
– Осуществление – в третьем?
– В третьем – из «все» и «ничто»! Из «да» и «нет»!
– О, если бы было третье слово!!
– Не надо слов.
– Довольно смысла?
– Довольно, пока не лопнула шина.
– А когда лопнет?
– Другая.
– А когда нет другой?
– Тогда посмотрим на верстовой столб…
– Категория пространства.
– На часы…
– Категория времени.
– И пойдем домой пешком.
– Мышление…
Павловка,14 октября 1911







