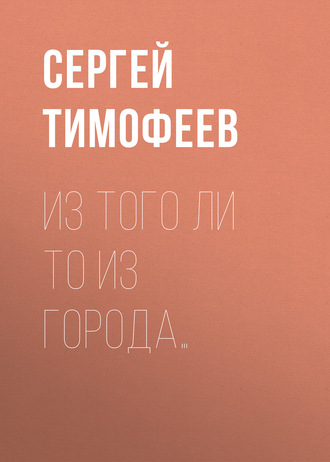
Сергей Тимофеев
Из того ли то из города…
Старец тоже молчит. Степенный такой, хоть и худощав на лицо. Волосы седые, усы прячутся в бороде, а борода уткнулась в грудь. Глаза светлые… Хотя, постой-ка… Как же это сразу… Там, где у людей зеницы, у старца – вроде как пленкой светлой подернуто… Ахнул Илья про себя.
Хорошо, Звенислов возвернулся. Этому палец в рот не клади, егоза, ровно на гвоздь сел. Иной одну мису целой не донесет, половину порасплескает али порастеряет, – этот сразу пять тащит. Две на ладонях, две на сгибе в локтях приспособил, и еще одну – на голове. Ба! Еще и ложки за пояс заткнул.
Метнул на стол, снова исчез – снова тащит. Молока кринку, – про молоко Илья и позабыл совсем. Вот тебе и гость; словно век тут жил. Распоряжается… Но с другой стороны – сам же сказал, чтоб на стол собрал. К тому же, в народе как говорится? Гость в дом – радость в дом, все что есть в печи, все на стол мечи. Только это вроде как про званого гостя говорится… А еще, помнится, деды рассказывали, а им – их деды, что будто бы из поколения в поколения предание передается: коли пришел гость, накорми-напои; нет ничего в доме – в лепешку расшибись, укради – а не выпусти из дома голодным да уставшим. В старину за воровство люто казнили – руки рубили без всякой пощады, но коли поневоле, для гостя, тут прощалось. Впрочем, воровство – оно не в обычае было, да и осталось не в обычае – вон они, избы, не заперты стоят, ворота открыты, ежели не ночь…
Наконец, принялись обедать. Степенно, не торопясь. Илья разломил душистый хлеб, – мать в него что-то добавляет, травы какие-то, для запаха пряного и сохранности лучшей; день полежит, не счерствеет, а коли на солнышке немного подержать – так и вообще, будто только что из печи, – посыпал солью. Взял репу. Странники же щам честь воздают. Поначалу старец зачерпнет, выхлебнет, руку к столу опустит; за ним Тимоха, тем же порядком, потом Васятка. Снова старец. Закончились щи, крошки хлебные со стола смахнули с ладони, и в рот. За редьку взялись. Звенислов себе такую ухватил, что и глянуть страшно. Вот ведь уродилась – дубина дубиной. Такой зайца пришибить можно, ежели метнуть удачно. И ведь осилил! Потом репу, с голову величиной, одолел. Грибов мису, с чесноком. Залил ковшом воды колодезной, к стене отвалился, руки на пузе скрестил, глаза в потолок. Лицо счастливое, ровно сто гривен на дороге отыскал.
Васятка со старцем – те менее проворные. Они больше на кашу гороховую налегли, мать давеча большой горшок сготовила.
Наконец, все вроде как насытились. Наелись-напились, мальчонка ложки-миски ополоснул, сохнуть положил. Теперь и поговорить можно.
* * *
– Вы, говорите, много по белу свету странствуете. А вот такие… калики перехожие, вам не встречались? – осторожно спросил Илья.
– Это кто ж такие будут? – встрепенулся Тимоха.
– Ну, это… – рассказал Илья, что от дедов слышал, как помнил, так и рассказал. – Не видали таких?
Мог бы и не спрашивать. Ответ у Звенислова на лице читался.
– Знаешь что, Илья, человек ты, по всему видать, хороший, одно плохо – лет тебе много, а ты все в байки разные веришь. Сказка же, она… Да чего там далеко ходить, обещано было – коли приветят хозяева ласковые, песню пропеть, сказку рассказать. Насчет песен, тут я не силен, врать не буду, это ты Бояну поклонись, а рассказать…
Не зря народ прозвания дает, ох, не зря! Зазвенели слова, полилась речь ясная, чистая, озорная. Позабыл Илья о своем недуге, слушает. Вроде и не в избе он, а там, где действо происходит. Тимоха же, как нарочно, такие потешки выдал, что только посреди мужиков и рассказывают. Их еще заветными называют. Про то, как заяц обещался лису осрамить; один раз обещался, а вышло трижды. Да про то, как молодец с купцом рассчитался, когда тот его в работники нанял, а ничего за год не заплатил, – обманул. Ну, ту самую, когда он еще лошадь с телегой поперек забора перепряг, когда купца дома не было, одна купчиха оставалась… Еще чего-то. И как рассказал: ни одного слова запретного, срамного, обидного не произнес. Илья хохотал, – на другом конце деревни слыхать было, – аж раскраснелся весь, ровно после бани. Смолк, наконец, Звенислов, а не то – уморил бы до смерти.
Вытер Илья глаза, – рукава у рубашки мокрыми стали, и не заметил как, – спохватился.
– Да что ж ты при малом-то такое? – спросил с укором.
Тень пробежала по лицу Тимохи.
– Повоевали дикие деревню, в которой он с отцом-матерью жил, – тихо сказал он. – Что смогли – забрали, остальное – огнем пожгли. Отца на дворе… Мать – в полон. Сам чудом в живых остался… Выше сердца копье прошло. Выходили. Вот только с поры той – не говорит и не слышит.
– Что, совсем? – сказал, чтобы хоть что-то сказать, Илья. Глянул на Васятку, и так его болью прошибло с макушки до пяток, что мало волком не взвыл.
– Ну, не то, чтобы совсем…
– Это как же прикажешь тебя понимать?
– А как хочешь, так и понимай. Ты лучше вот что: поклонись Бояну, да попроси спеть-сыграть. Может, тогда и поймешь.
– Как же я поклонюсь, если… нездоров сильно…
– Медведь, что ли, помял? – Дался Тимохе этот медведь, опять ведь вспомнил.
– Нет, не медведь… С чего взял?
– Так на тебя глядючи. Неужто существует на белом свете такая хворь, чтобы эдакого богатыря одолела?
– Знать, существует…
– Медведь, он перед тем как напасть, на задние лапы встает, – глядя в упор на Илью, ни к селу, ни к городу завел Звенислов. – Потому в древности, когда на него с рогатиной и ножом ходили, время улучали. Встанет он на дыбы, раскинет лапы, тут ему рогатину под пасть… И рука должна быть верной и твердой, о втором ударе речи нет…
– А коли нет рогатины? – К чему это он разговор такой завел?
– Зубы у него, и когти страшные. Не убежать, не на дерево влезть, потому – проворен. Так что думай…
– Не пойму я, – Илья покачал головой. – С чего это ты про медведя-то?..
– Да так, к слову пришлось… Кланяйся, говорю, Бояну.
– Ну что ты пристал к человеку, ровно репей, – неожиданно вступил в разговор старец. – Сам же сказал, и человек хороший, и встретил приветливо, и напоил-накормил.
Он неторопливо сунул руку за спину, потащил гусли и положил их перед собою на стол.
– О чем же тебе спеть-то? – задумчиво протянул старец. – А вот хотя бы и эту…
Как над тем-то да над городом Черниговом,
Да над тем-то селом да над Березовым,
Восходило в чисто небо солнце красное…
И опять – не в избе Илья, ни слов не слышит, ни струн перепев. Видит он деревушку возле озера, рощу березовую, дорогу, вдаль змеей извивающуюся… Словно парит он на крыльях в вышине подоблачной над землей. Ладная деревушка, такая же ухоженная, как и ихняя, только размерами поболее. На озере – лодки, на полях – ратаи, на огородах – бабы, ребятишки – по улице носятся. Один в один, почти, как у них. Ан нет, кузня есть, и мельница тоже.
А потом увидел Илья, вымахнула из леса туча черная, понеслась через поля к деревушке. Не сразу понял, что это дикие. Только как понял, крылья сложил свои невидимые, чтобы сверху орлом броситься, – нет, не дано ему вступиться. По-прежнему парит он в вышине, сердце из груди рвется, из уст – крик неслышимый, а поделать ничего не может. Внизу же искорки зажглись, понеслись молниями, ударили в ближние крыши, огнем к небу взметнулись…
И вот уже Илья не в небе, – посреди улицы. И видит, и слышит, а двинуться по-прежнему не может. Гудит пламя, сизый дым по земле стелется, не продохнуть, мечутся люди, пытаясь спастись от всадников, да только где там… Свистнет стрела, – уткнется в траву тот, кто мгновение назад живым был. Метнется гадюкой черной аркан, – поволок всадник того, кто мгновение назад свободным был. Мелькнет в дыму клинок, коротко торкнет копье – пошатнется и припадет на колени тот, кому на роду написано было, постоит так да и опустится мягко, ровно вздремнуть прилег. Вой, крики, треск огненный, ржание, грохот изб оседающих – бьется в голове Ильи единым боем, – но не отвернуться, ни глаза закрыть, ни уши заткнуть…
Сколько прошло времени, спроси – не ответит. Может, час, а может – несколько мгновений. Только за это время столько увидел, – больше, чем за всю прожитую жизнь. Иным такие видения волосы в зимний цвет красят, Илья очнулся – с такой силой пальцы в камень печной впились, как только в песок не искрошил… Сердце из груди рвется, воздуху не хватает, слезы злые глаза застят… Все сам видел, о чем Тимоха умолчал. И как пал под саблей ратай, с вилами на всадника кинувшийся, как другой всадник поволок на аркане жену его, мать Васяткину, и как сам мальчик, бросившийся вслед, напоролся на копье и упал, истекая кровью…
А в избе тихо. Ни звука. Старец гусли снова за спину задвинул, глаза невидящие веками прикрыты. Застыли Тимоха с Васяткой, ровно деревянные.
Сколько так просидели – неведомо.
Наконец, Звенислов поднялся.
– Ну что ж, хозяин ласковый, спасибо тебе, за то, что напоил-накормил, отдых дал путникам усталым. Пора нам. Кваску, напоследок, не найдется ли?
– В чулане, на полке. Кринка там, рядом с ковшом, который в виде ладьи. Старенький такой ковш, почернел уже. Только, боюсь, и того не наберется…
И точно, не набралось. Принес Тимоха, едва больше половины ковша. Старцу протянул, сам глоток сделал, Васятку попотчевал, поставил на стол. Взял в руки палку свою ореховую. Поднялись люди странные, стали в дверях, поклонились поясно.
– Бывай здоров, хозяин. Извини уж, что потревожили, ежели что не так…
– Так, не так, перетакивать нечего… Эх, страннички! – воскликнул вдруг Илья и шарахнул кулаком по печи. – Разбередили сердце молодеческое!.. Что же это? Как же это? Дикие там домы разоряют, детей сиротят, а я здесь…
– А я здесь… – поддразнил Звенислов. – Кто ж виноват, что ты здесь? Ступай в Киев, там новый князь дружину набирает, ему богатыри нужны. А пуще земле нашей, матушке…
– Пустобрех ты! Сказано же было, нездоров я, немощен…
– Погоди, погоди, – Тимоха прищурил глаз. – Нездоров, или немощен?..
– Ноги у меня не ходят, – буркнул Илья и уставился в угол.
– А в руках силушка есть? Ну-ка, держи палку.
Звенислов протянул Илье орешину и, как только тот, не понимая, зачем, ухватил ее за конец, – дернул. Даром что выглядит неказисто, – слетел Илья с печи, – и об пол со всей дури.
– Да ты… Да ты что… – вскочил на ноги и замер с открытым ртом.
Сколько лет на ногах не стоял, уж и надежду потерял, и вдруг…
– Ты, Илья, на лавку присядь, да кваску хлебни, – услышал он насмешливый голос Звенислова. – А то, не ровен час, от радости с ума соскочишь, как с печи летел…
Не помнит себя Илья. Присел на лавку, ухватил ковш, махнул единым разом. Не квас по горлу, огонь живой побежал по жилам; дыханье сперло, тело силушкой наливается, ровно растение по весне соком земным.
– Ты только того, охолони сперва маленько. Снова на печь, и в себя приди. Дров не наломай. Подумай и реши, что да как. А нам пора.
Какой там – на печь. Выскочил Илья из горницы, ухватил Звенислова за плечо, к себе развернул.
– Кто же вы, люди хожалые, люди странные? Уж не те ли самые калики, о которых мне деды рассказывали?..
– Ты, Илья, думай себе как хочешь, твоя воля, а только ежели придется когда тебе по жизни с каликами столкнуться, обходись с ними ласково, приветливо, вот как с нами обошелся. Обиды не чини. Запомни еще: коли приведет тебя дорога в дружину княжескую, не вступай в рать с Святогором-богатырем, потому – первый он среди прочих остался; ни с Микулушкой Селяниновичем – любит его мать-сыра-земля, не даст в обиду; ни с Вольгой Святославичем – этот не силою, хитростью возьмет. Коли последуешь этому совету, – не написана тебе смерть на рати; коли не последуешь… Ну да сам не дурак…
– Погодь… погодь еще немного. Как… чем я могу отблагодарить вас?..
– Нас?.. Ты не нас, ты бабе спасибо скажи, что нам твой двор указала.
– Бабе?.. Какой бабе?..
– Откуда ж мне знать?.. Плотная такая, лицом светлая… Да, глаза у нее еще зеленые-презеленые…
– Должно быть, Велеслава… Больше некому…
– Может, она, а может, и нет… – Тимоха с улыбкой взглянул на Илью. – Ты еще вот что не забывай: зубы у медведя, и когти страшные… Про дружину подумай, про землю нашу… А теперь – прощевай.
– Еще одно слово: увидимся ли когда еще?
– Гора с горой не сходится, Илья, а человек с человеком… Не горы, чай. Свидимся.
И пошли себе со двора.
Только вот что удивительно: сколько потом Илья не выведывал осторожненько, никто из деревенских странников не встречал…
* * *
Давно уже скрылись за воротами люди хожалые, а Илья все никак места себе не найдет. Переполняет радость грудь молодецкую, рвется наружу, не удержать. Вбежал в избу, ухватил лавку, поднял, на место ухнул; стол ухватил – и этот, легче перышка. Мало, наружу не выкинул. Кровь играет, себя не чует. Сдурел совсем, что глухарь на току. Верит – и не верит, боится поверить. То в присядку пустится, – неловко, смешно, да кто ж осудит-то? То в сени выскочит – к Велеславе бежать, в ножки кланяться. Угомонился наконец, присел на лавку, голова пустая, рот до ушей – дурачок деревенский, да и только. Поднялся, выскочил в сени, сунул голову в кадку с водой, – и обратно на лавку. Как быть, что делать? Правду Тимоха сказал, охолонуть маленько надобно, в себя прийти, поразмыслить.
А как Бояна с Васяткой вспомнил, так и совсем радость отхлынула. Беда на Русь вернулась. Усмирили одних диких, исчезли они с лица земли, – другие пришли на их место. Такие же свирепые, волки степные хищные. Богатырей князь в дружину ищет, новых заместо старых. Неспроста странники в избу к нему заглянули, ох, неспроста. Знать, не суждена ему жизнь мирная, хлебопашеская. Знать, лежит его дорога в Киев-град, ко двору княжескому.
Но что же отец с матерью? Как же они? Один ведь он у них… Не успеют порадоваться, что сын их снова на ногах, что сбылась мечта их давняя, заветная, а он… Поклон вам земной, отец-матушка, прощевайте, ждет меня дорога дальняя да подвиги славные, богатырские? И то сказать, какой из Ильи воин? Он сроду никакого оружия в руках не держал. Хотя, по правде, он и пахарь никакой.
Нет, правду сказал Тимоха, тут с кондачка не решишь.
Вернулись отец с матерью. Лежит Илья на печи, как прежде. Сказал, что заходили странники, передохнули маленько, и пошли себе дальше. Приветил, как мог. Только Ивану с Ефросиньей не до странников. Умаялись, а еще по избе дел – не переделать. Пока ужинали, все про пашню разговор вели. Позаросла сильно, пни, кажется, с каждым годом все дальше и дальше корни пускают. Лес придвигается, скоро совсем от надела ничего не останется. Хорошо бы родственников на помощь позвать, да куда там – у них самих то же самое. Поужинали – мать корову доить, отец – стучит чем-то возле огорода. А Илья на печи думу думает, да времени подходящего ждет.
Дождался, наконец. Угомонились в избе, угомонились в деревушке. Слез Илья с печи, прислушиваясь постоянно, как бы ему отца с матерью не потревожить. Не потревожил, силы у них уже не те, подустали. Разложил полушубок, прикрыл рогожей, так, чтобы видимость осталась – здесь он, никуда не делся. А сам, в три погибели согнувшись, к двери, приотворил потихоньку – не выдала скрипом, – и на двор. Выпрямился, раскинул руки во всю ширь, глотнул воздуха, ночными ароматами пропитанного. Не очень погода, месяц наполовину вороны склевали, облачка понабежали, – ну да выбирать не приходится. Хорошо, ветерок свежий.
Крадется вдоль забора – ровно тать какой. Ровно не на дело доброе отправился, а озоровать. Крадется, и сам себя вразумляет. Ведь и впрямь – озорство. Возмужал уже, почему не открылся родителям? Выложил бы все сразу, просто и ясно, что в отсутствие их приключилось. Сначала поведал осторожно, потом сел аккуратно, слез… Только что уж теперь об этом рассуждать. Коли уж решил без головы, так хоть дальше бы не обмишуриться.
Счастье пока сопутствует – ни тебе навстречу кто, ни собака учуяла. Да и недалеко до околицы – две избы оставил за спиной, вот тебе до леса и рукой подать. Если б не запинался на каждом шагу, по сторонам не оглядывался. Не только, чтобы не заметили, а больше – внове все. Сколько лет на улицу не выходил… Вроде как знакомо кажется, а вроде и нет. Ну да времени нет, поспешать надобно. До надела-то отцовского – трое поприщ. Пока туда, пока обратно, там еще сколько. Ежели по тому судить, как родители промеж себя говорили, за один раз не совладать.
Вышел Илья за околицу – бегом припустился. Пока поприще до лесу пробежал, пару раз к земле приложился. Поразбили дорогу телегами, повывернули комьев с камнями; добро бы еще луна полной была, или облака ветром поразвеяло, посветлее – оно и сподручнее.
Идет по лесу. Попритерпелись глаза к темноте, попроще стало. Кажется ему – придвинулся к деревушке подлесок. Некоторые деревья узнает – какими были, такими остались; могучие, кряжистые, не властно над ними время. Иных нет – должно быть, на дрова пошли. Тихо-то как… Только живая тишина, не мертвая. Коли остановиться да постоять, замерев, много чего услышишь. Тут тебе и шорохи, и покряхтыванье, и шелест, и уханье… В другой раз постоял бы, а сейчас поторапливаться надобно…
Вот он, наконец, надел отцовский. То ли от того, что вырос, то ли от того, что лес свое забирает, чуть не вполовину меньше кажется, чем когда в последний раз видел. С одной стороны, к дороге ближней, взрыхлена земля; видно, тут и расчищали. Пара ям больших, – интересно, какого ж размера пни в них сидели? Эге, да тут таких не один и не два осталось, – с десяток, если не поболее. И чего, дурья голова, топор не прихватил? Спрятал бы в сенях топор, пару клиньев, все дело веселее б было. Неужто голыми руками такие махины своротишь?.. Так ведь не бежать же обратно. Глаза боятся – руки делают. Сколько смогу, выворочу, а остальное – завтра.
Подошел к ближайшему, обошел вокруг. Боятся глаза… Выбрал, где корень потолще из земли вывернулся, наклонился, ухватил поудобнее, потянул. Тот и не шелохнулся; нет веры у Ильи в силу свою, потому и не шелохнулся. И так, и сяк тянул Илья, ничего не выходит, только взопрел весь. Отпустил корень, пошатал пень – крепко врос, присел, пот отер. Посмотрел на ладони, провел ладонями по портам. Вот тебе и богатырь русский, подумалось, в дружину княжескую собрался, диких воевать, а с пнем совладать не может. Подступила обида к горлу, а тут еще Васятка некстати вспомнился. Или кстати?..
Чувствует Илья, зашевелилось что-то в нем, забурлило, побежало по всему телу волной горячей. Встал, – не видит ничего, кроме копья того, да мальчонки лежащего, с раной кровавой. Наклонился, ухватил корень, – словно нитку гнилую из земли вырвал. Один корень, второй, – вот уже половина пня свободна, – теперь за комель, как давеча лавка пушинкой показалась, так выполз, покряхтывая, пень из земли, досадуя, что не устоял, что поддался силе человеческой.
Глянул на него Илья, усмехнулся. Что, не по нраву? Взял, за что попало, да и метнул куда-то в темноту. К себе прислушался. Играет сила, течет по телу потоком огненным, но не жгучим, к делу просится.
Второй пень за первым последовал, и не заметил как. Вроде только ухватил, а вот он уже весь рядом, будто сам выскочил. И его за спину метнул, куда подальше, потом как-нибудь соберется.
Месяц по небу вершков на пять – шесть подвинулся, как Илья пришел, а уж весь надел и расчищен. Не полностью, конечно, поросль молодая осталась, ну да ее повыкорчевать, – час времени. До света еще далеко, а другие наделы – вот они, рядышком. Чьи они, разве вспомнишь? Так это и не важно.
Раззадорился Илья. Выскакивают пни, один за одним, точно чеснок из кувшина. Кряхтят, улетают во тьму. И не видит, как показалось из леса ровно облако темное. Ростом повыше человека будет, да и в обхвате поболее. Замерло, затаилось. Выжидает, должно быть.
А Илье некогда. Во вкус вошел. Дернет – метнет, дернет – метнет… Пока не попался наконец такой, что заартачился. Не хочет из земли выбираться, да и все тут. Только Илье упрямства не занимать стать. Присел, ухватил за корни с обеих сторон, уперся ногами, и начал потихоньку выпрямляться. Жилы вздулись, дрожь по телу пошла. Чувствует: то ли подниматься начал, то ли в землю уходить. Ан нет, поддается, вражина. Понемногу, а поддается. Месяц выглянул из-за облачка, дивуется. Блеснуло вроде что-то под ногами, звякнуло вроде. Нельзя бросить, посмотреть. Дашь слабину – упустишь удачу. Это как щуку тащить. Держи веревку в натяг, чтобы сопротивление чувствовать. Чуть провиснет – выскочит рыба из воды, мотнет головой – и пошла себе гулять. Хорошо еще, крючок оставит. Крючки, они больно дорого стоят…
И не видит, как за спиной у него облако черное, столбом тумана застывшее, к нему двинулось. Движется, и меняется на ходу. Снизу подобралось, сверху раскинулось, раздалось в стороны. Рев страшный раздался, про такой говорят – деревья к земле клонит.
Оторвался Илья от пня, – тот так и остался наполовину из земли торчать, – оглянулся. Идет к нему медведь, – огромный, черный, глаза красным горят, пасть раззявил. То на четыре лапы встанет, то на две задние приподнимется, головой из стороны в сторону поматывает. И ревет.
Видит Илья – не скрыться ему, не спрятаться. Под рукой нет ничего, только пень. Это только для тех зверь неуклюжий, неповоротливый, кто о нем только из сказок знает. Только в сказках от него убежать или на дерево забравшись спастись можно. Коли б такое въяве, иной бы зверь в лесу хозяином был.
А медведь все ближе, вот уже и на лапы задние встал, сейчас бросится… «Зубы у медведя, и когти страшные…», «…рогатину под пасть…» Само как-то на ум пришло. Спасибо, Тимоха, пока жив, помнить буду… И Илья, очертя голову, сам вперед бросился. Наклонился слегка в сторону, чуть пригнулся – чтобы когтей избежать, да и обхватил чудище лесное поперек туловища, под лапами, вжавшись головой под пастью раскрытою.
Взревел медведь, так взревел, что мало голова не лопнула, однако ж поделать ничего не может. Сучит за спиной у Ильи лапами, над ухом чавкает, – только слюна из пасти летит, – давит тяжестью. Да только не на того напал. Уперся человек ногами в землю, противостал силе силою, а тяжести тяжестью, нет зверю дикому ни в чем преимущества. Душит запахом тяжелым, а тот его – объятиями крепкими, из которых не вырваться…
Чувствует Илья, слабеет медведь, поддается. Теперь главное – самому не оплошать. Только слышит, вроде как шепчет ему-то на ухо. Невнятно так, не разобрать, но слова вроде человеческие. Шалишь, сила вражья, не обманешь мороком. Однако ж, неволею, прислушался.
– Пус-ти, Иль-я… Пус-ти, го-во-рю… За-да-вил сов-сем… Тво-я взя-ла…
Будь что будет!.. Нельзя вот так, о милости просящего, жизни лишать… Нешто мы дикие какие?..
Разжал Илья руки, отскочил в сторону, смотрит с опаскою. А медведь охнул как-то по-человечески, да и обмяк. Только-только горой возвышался, а склонился, от пня, что рядом, не отличиться. Приподнялся, набрал воздуху, повздыхал часто, дух перевел. Глядит Илья, диву дается. И не медведь перед ним вовсе, человек в тулупчике, на правую сторону запахнутый. Не ровен час, никак самого едва не задавил…
– Вот ведь медведь какой уродился, – буркнул хозяин и присел на пень.
– Так это ж не я медведь, а ты… Чего прикинулся-то? Не мог по-доброму? Показался бы, сказал, в чем дело. Ты ж меня мало жизни не лишил…
– Это еще кто кого мало не лишил… Думал, пугану – и уберется. А ты не из пугливых оказался. Думал – помну слегка, да и отпущу, а ты меня самого помял… Не обижен, силушкой-то.
– Да ладно тебе, – говорит Илья, и сам себе дивится, вот так, запросто, с хозяином? – Кто старое помянет, тому глаз вон. Чего пужать-то вздумал? Нешто тебе пней жалко? Сам погляди, разве ж это пашня? Позаросло все… Пни торчат…
– Пней жалко… Не пней, да не всех. Все – они обыкновенные, а ты за заговоренный взялся.
– Заговоренный?.. – Илья ушам своим не поверил.
– А ты глянь, что под ним. Глянь-глянь, не бойся, сказал же, твоя взяла…
Слез, отошел в сторонку. Наклонился Илья, глядит. Как раз месяц из облаков выбрался, осветил яму, а в ней – посуда всякая, желтого да белого металла, кружочки, украшения. Никак клад?
– Не маленький, знать должон, – вздохнул хозяин. – Когда на сохранение в лесу оставляют, кого приглядывать просят? С кем договор заключают? То-то же. Давно лежит, хозяев, небось, и в живых давно уж нету. Твой он теперь, забирай. На вот тебе мешок. Только вот, Илья, над чем подумай. Сумел взять – сумей распорядиться. Не сумеешь – хлебнешь горюшка; сам погибнешь, и других погубишь.
– А ты что посоветуешь?
– Я в людских делах не советчик… И вот что: ты тут наозорничал, днем исправить все надобно будет.
– Это что же я такое наозорничал?
– От людей услышишь. Прощевай, Илья. Не забуду, как ты меня давил, но и что сердца послушал, – тоже не забуду. Коли не тебе, так сродственникам твоим помогу. Окорот дам лесу, чтобы пашен ваших не глушил. Со зверьем помогу, как время охоты придет. А теперь прощай.
Поднялся, и исчез в лесу. Покачал головой Илья, надо ж такому случиться, рассказать кому – не поверят. За дурня сочтут. Собрал золото-серебро, уложил в мешок, выхватил пень, швырнул в темноту, и пошел к дому.
* * *
…Проснулся Илья поздно, и сразу услышал, как родители шумно разговаривают о чем-то возле крыльца. Прислушался. Чудные дела случились нынче ночью. Какие-то неведомые силы раскорчевали наделы, а пни побросали в овраг так, что перегородили течение Агафьи. Оно, конечно, доброе дело сделали, но так созорничать – лучше бы совсем не делали. Сами бы справились. Деревушка гудит разговорами, ровно потревоженный улей, а никто ничего толком сказать не может. Никто ничего не видел, не слышал. Так вот о чем хозяин речи вел… Что ж, оно и к лучшему. Не век же на печи скрываться. И отцу-матери открыться надобно, и поправить, что ночью не видя натворил. Позвал негромко. Вошли родители.
– Ну что, сынок, проснулся? – ласково спросила Ефросинья. – Кушать будешь?
– Я это, – буркнул Илья, точно в омут с головой.
– Что – ты?
– Слышал я, как вы с отцом возле крыльца разговаривали… Ну, про озорство… Не знаю, как уж и сказать… Ну, в общем, я это созорничал… Не со зла… Не видно было…
Переглянулись Иван с Ефросиньей. Вздохнули. Была одна беда, стало две…
– Ты, Илья, приляг пока. А я покамест за Велеславой… – пробормотал Иван, глядя в угол. Ефросинья отвернулась, слезу смахнула.
– Да нет же, батюшка, – не знает Илья, как и говорить, язык застревает. – Не все сказал я вам, ну, про странников тех, что давеча приходили… Вы присядьте, послушайте…
Присели родители. Начал Илья рассказывать. Как мог, через пень-колоду. Все больше в потолок смотрит, лишь изредка глаза скашивает. Видит: не верят ему; хотят верить, а не верят.
Поднялся Иван.
– Погоди, Илья, погоди. Сейчас мать тебе поесть подаст, а я все ж таки пока за Велеславой…
– Батюшка… Нет уж, это ты погоди…
И не успел Иван и шага шагнуть, рывком поднялся Илья на печи, сел, свесив ноги, соскользнул, встал, – руки в стороны. Зато Иван на ногах не удержался. Зашатался, и на лавку. Рот раскрыл. Ахнула Ефросинья, закрылась ладонями. Смотрят родители – глазам своим не верят.
– Матушка, батюшка! – бросился Илья перед родителями на колени, обнял, зарылся головой. – Вы уж простите, не знал, как вам открыться… Сам не сразу поверил… Помочь решил… Вот и натворил…
– Илья… Илюшенька… – шепчет Ефросинья. Не может слез остановить. И сказать ничего не может.
– Ты, что понатворил, исправить должон, – Иван тоже не знает, что сказать. Дрожит голос; руку поднял – ущипнуть себя хотел, уж не снится ли, – так и рука дрожит, ровно у старика векового.
– Радость… радость-то какая!.. – вскинулась Ефросинья. – Что же это… к родным надо… к соседям… всех звать… столы накрывать… радость-то…
Схватилась, и выскочила из избы.
Вышли и Илья с Иваном. Глядь – а уж народ подходит. Мнутся в воротах, друг друга вперед подталкивают. Сколько лет мимо ходили… Бабы из-за столбов приворотных выглядывают, ребятишки. А вдруг ослышались, вдруг померещилось… Нет, не померещилось. Вот он, Иван, а вот, рядом с ним, Илья. Улыбаются оба приветливо, руками машут: чего замешкались, проходите. Илья-то, Илья!.. Не узнать, как мальчиком был. В плечах раздался, усы, борода, стоит крепко, и силушки, видать, не занимать стать. Подходят сельчане, робеют. Иван с Ильей – навстречу. Слово за слово, разговор поднялся. Ну, тут уж осмелели.
Получаса не прошло – едва не вся деревушка на двор к Ивану сбежалась, разве уж совсем немощные по домам остались. Удивляются, расспрашивают, шум, гам. Бабы Ефросинью обступили, а та никак в себя от радости прийти не может, – плачет и плачет. Во всю жизнь, должно быть, столько слез не извела, сколько за эти полчаса. Велеслава пришла. Ей Илья уже совсем было в ножки поклониться собрался, да только зря. Не видела она никаких странников, никому про него не рассказывала, никого на двор не посылала. Да разве ж это важно?
Видит Илья, – все кто мог пришли, – на крыльцо поднялся, слово сказать.
– Вы уж извините, люди добрые, – развел он руки в стороны, – никакая это не вражья сила Агафью пнями запрудила. Я это… Не со зла или озорства, темно было, не видел, куда складывал. Исправлю все. Вот сейчас прямо пойду и исправлю…
Наступила тишина. Потом кто-то недоуменно произнес:
– Да нешто такое возможно, одному-то? Али тебе помогал кто?
– Никто не помогал. Сам справился.
– Да ну… Быть такого не может… Чтобы столько повыкорчевать, да в реку покидать… Ты, Илья, хоть и оздоровел чудесным образом, а все ж таки не того… Не морочь, людей-то… – зашумели сельчане.
– И не думал морочить… Я и доказать могу, что сам все понатворил…
– Это чем же ты докажешь? Пни, небось, все повыдерганы…
– А вот чем.
Зашел Илья в избу, вышел с мешком.
– Я, когда пни дергал, нашел кое-что. Не мое это, не мной положено, не мне и владеть. Пусть старики решают, что с этим делать. Потому как, по разуму моему, всему обществу это принадлежать должно.
Сказал, да мешок и опрокинул. Полилось на землю серебро-золото, живым потоком, полилось, зазвенело. Те, кто рядом стоял, в стороны прянули; показалось им, будто змея на солнце чешуей блеснула. Притихли все. Смотрят, дивуются. Вот ведь денек выдался: сколько лет один на другой похожи, а тут – чудес, как из ведра.
– Я вот что думаю, – хоть и не самый старший здесь Иван, однако ж у него на дворе сход невольный собрался, к тому же, как-никак, сын его богатство отыскал. – Надо бы посуду эту, да украшения в город свезти, продать, а на вырученные деньги кузню построить, кузнеца пригласить, давно собирались. Отложить часть, на подати. В общем, так распорядиться, чтобы всем от клада этого польза была. Ну да вы решайте пока, мы же с Ильей пойдем озорство исправлять.
Пошли они. Идут, Илья отцу снова и снова про странников рассказывает. И про клад, как он ему достался. Поведал и про хозяина. Пока Ефросинья по деревушке бегала, он отцу коротко разъяснил, что да как, Иван и решение принял. Сразу, не задумываясь. Оно и правильно: с возрастом человек мудрее становится, жизнь повидавши-то… А еще про сон странный.







