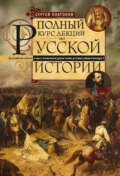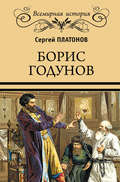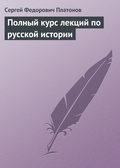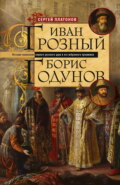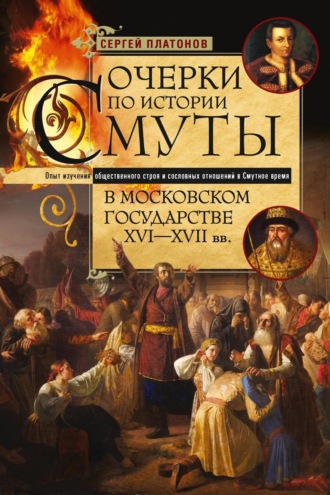
Сергей Платонов
Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI— XVII вв. Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время
Занятие Быстрой Сосны сопровождалось занятием некоторых пунктов и по среднему течению Дона. Один и тот же государев указ предписал (в 1586 г.) построение Ливен и города Воронежа «на Дону на Воронеже». Назначение нового донского города было стеречь не только Ногайскую сторону на восток от Дона, но и Крымскую на запад от него. Воронеж высылал сюда сторожи именно для наблюдения за новой Калмиусской дорогой, которая шла «меж рек: правые речки впали в Дон, а левые в Донец». Через несколько лет, в последнее десятилетие XVI века (в 1593–1600 гг.), наблюдение за новой дорогой было еще усилено. Московские гарнизоны перешли на р. Оскол в новые города: Оскол, Валуйки и Царев-Борисов, поставленные на местах прежних сторож. Отсюда они могли действовать не только на Калмиусской дороге, но и на Изюмской, так как эти города стали между обеих дорог. В то же время основан был южнее Ливен, на Муравском шляхе, и Белгород, упомянутый нами выше. Совершенно ясна цель, с которой так быстро захватывалось течение р. Оскола. По этой судоходной реке всего легче было дойти до Северного Донца и на его бродах пересечь татарские пути Изюмский и Калмиусский. Но обстоятельства показали, что тогда с этим делом чересчур поспешили: Царев-Борисов, выдвинутый слишком вперед, не устоял и был в Смутное время запустошен. Судьба Белгорода была счастливее благодаря тому, что он не был так удален от Сейма и Быстрой Сосны и был поставлен на удачном месте. Опираясь на города, защищавшие течение Сейма и Быстрой Сосны, Белгород был вне опасности от Поля, а в то же время он стоял на Донце на таком месте, которого татарам нельзя было миновать, идя по Муравской дороге. В одном документе, современном основанию Белгорода, говорится, что «опричь Муравской дороги меж Донца и Ворскла обходу царю крымскому и большим людем (то есть значительному войску) иной дороги нет, опричь Изюмской и Калмиюнской дороги». Уклониться на запад за Ворсклу было нельзя, потому что по Ворскле здесь «пришли леса большие, и ржавцы и болота есть», а идти восточнее мешал Северный Донец. В этом-то тесном месте и построили Белгород. Закрывая выход на север из этого пространства между Донцом и Ворсклой, он, как мы уже указали, не позволял пользоваться ни Муравской дорогой, ни дорогами, шедшими от нее на северо-запад, с верховьев Ворсклы и Псла через Сейм.
Так к исходу XVI столетия московское правительство овладело громадным пространством «дикого поля» между Доном, верхней Окой и левыми притоками Днепра и Десны.
На Ногайской стороне Поля, на восток от Дона, не было такой нужды в крепостях, как на Крымской стороне: здесь были природные «крепости». По рекам Цне и нижней Мокше залегали такие леса, которые не имели нужды в искусственных укреплениях и отлично прикрывали с востока шацкие и рязанские места; а доступ сюда с юга между Доном и Цной затруднялся течением рр. Воронежа, Битюка и Вороны. По документам XVI века можно проследить, кажется, только одну Ногайскую дорогу на Рязанский край. Она шла через верховья Битюка к водоразделу между Мотырем (или Матырой – приток Воронежа) и Липовицей (приток Цны) и отсюда или направлялась на Торбеев брод на Воронеже (около г. Козлова) и далее на Донков и Ряжск, или же шла между рр. Польным Воронежем и Челновой (приток Цны) на Шацк. На этой дороге в XVI веке не ставили городов, а ограничивались только сторожами, которые либо стояли на самой дороге, либо наблюдали за ней со стороны, с берегов Дона и Воронежа. На самой дороге были сторожи на Битюке у впадения в него Чамлыка, наблюдавшие «сакмы, которыми сакмами ходят заволжские ногаи из Казыева улуса и азовские люди на государевы украйны, на Рязанския и на Ряжския и на Шатцкия места». Эти сакмы предполагались от верховья Цны через Битюк до верховьев Гавы (или Хавы), впадающей в Усмань. Вторые сторожи были на р. Липовице между Цной и Мотырем; третьи на Торбеевом броде и на восток от него до р. Челновой. От Торбеева брода Ногайская дорога круто поворачивала на запад к Дону, и здесь на ней стояли сторожи на р. Сквирне (Скверне) и р. Рясе, уже недалеко от Ряжска и Донкова.
Таковы были результаты работы московского правительства на «диком поле». Можно удивляться тому, как много было здесь достигнуто в такой короткий срок; но для объяснения дела следует помнить, что быстрое движение на юг было возможно между верховьями Оки и средним Доном лишь потому, что с обеих сторон фланги боевых линий были надежно прикрыты. Слева сам Дон с притоками и заросшие лесами Цна и Мокша служили таким прикрытием; справа опорой была так называемая Севера – старые города по р. Десне и нижнему Сейму. Эти города и составляли последний район московского юга. Приобретенные в начале XVI столетия от Литвы, не раз бывшие ареной борьбы, они носили определенный отпечаток боевой жизни. Занимая течение двух крупных рек, Десны и Сейма, они делились естественным образом на две группы: городов по Десне и городов по Сейму. На Десне стояли: Брянск, Трубчевск, Новгород-Северский, Чернигов и Моравск. Все они имели значение крепостей, обращенных на Литву. Впереди них, еще ближе к литовскому рубежу, расположены были Мглин, Почеп и Стародуб, а также мелкие острожки и замки вроде Дрокова (Дракова) и Поповой горы. Это была одна группа городов. Другую составляли Путивль и Рыльск, расположенные на Сейме и обращенные к Полю, на которое они высылали сторожи против татар. На татар же был обращен и Севск с Комарицкой волостью, ему принадлежавшей; хотя он находился в области Десны, а не Сейма, но он был укрыт от Литвы лесами, шедшими по Десне от Брянска, и смотрел на Свиную дорогу, которой пользовались татары. Область северских городов отделялась от Смоленской большими лесами. Сообщение Северы со Смоленском было через Брянск и Рославль; но тот же Брянск близок был к Козельску, Карачеву и Белёву и связывал Северу с заоцкими городами. В этом заключалось его значение. Южнее первое место принадлежало Путивлю: в XVI веке он был одинаково близок и к «дикому полю», и к литовско-польскому рубежу. Почти у стен Путивля сходились московская и польско-литовская границы и между ними клином к Путивлю врезывалось Поле, еще не освоенное ни тем ни другим государством. Такое положение, лицом к лицу с двумя врагами, придавало Путивлю особенную военную важность: недаром он имел каменную крепость и считался главным городом края. Из прочих городов крупнейшими были Чернигов, Стародуб и Новгород-Северский. Через Северу пролегали дороги, соединявшие московский центр с Киевом и Польшей; Севера имела некоторое торговое оживление, так как была богата лесом и медом, торговала коноплей, имела каменоломни по рр. Нерусе, Усоже и Свапе, где добывался «жерновой камень»[17].
Мы закончили обзор южной части Московского государства XVI века и представили перечень областей, на какие она делилась. Не один раз мы называли все это пространство «военным округом». Действительно, потребностями народной обороны обусловливались здесь все правительственные действия и определялся склад общественной жизни и хозяйственной деятельности. Свойства врага, которого надлежало здесь остерегаться и с которым приходилось бороться, были своеобразны: это был степной хищник, подвижной и дерзкий, но в то же время нестойкий и неуловимый. Он «искрадывал» русскую украйну, а не воевал ее открытой войной; он полонил, грабил и пустошил страну, но не завоевывал ее; он держал московских людей в постоянном страхе своего набега, но в то же время он не пытался отнять навсегда или даже временно присвоить земли, на которые налетал внезапной, но короткой грозой. Поэтому столь же своеобразны были и формы украинной организации, предназначенной на борьбу с таким врагом. Ряд крепостей стоял на границе; в них жил постоянный гарнизон и было приготовлено место для окрестного населения на тот случай, если ему при нашествии врага будет необходимо и по времени возможно укрыться за стены крепости. Из крепостей рассылаются разведочные отряды для наблюдения за появлением татар, а в определенное время года в главнейших крепостях собираются большие массы войск в ожидании крупного набега крымского «царя». Все мелочи крепостной жизни, все маршруты разведочных партий, вся «береговая» или «польная» служба, как ее называли, – словом, вся совокупность оборонительных мер определена наказами и «росписями». Самым мелочным образом заботятся о том, чтобы быть «усторожливее», и предписывают крайнюю осмотрительность. А между тем, несмотря на опасности, на всем пространстве укрепленной границы живет и подвигается вперед, все южнее, земледельческое и промышленное население; оно не только без разрешения, но и без ведома власти оседает на новых землицах, в своих «юртах», пашенных заимках и зверопромышленных угодьях. Стремление московского населения на юг из центра государства было так энергично, что выбрасывало наиболее предприимчивые элементы даже вовсе за границу крепостей, где защитой поселенца была уже не засека или городской вал, а природные «крепости»: лесная чаща и течение лесной же речки. Недоступный конному степняку-грабителю лес для русского поселенца был и убежищем, и кормильцем. Рыболовство в лесных озерах и реках, охота и бортничество привлекали поселенцев именно в леса. Один из исследователей заселения нашего Поля (И. Н. Миклашевский), отмечая расположение поселков на украйне по рекам и лесам, справедливо говорит, что «русский человек, передвигавшийся из северных областей государства, не поселялся в безлесных местностях; не лес, а степь останавливала его движение». Таким образом рядом с правительственной заимкой Поля происходила и частная. И та и другая, изучив свойства врага и средства борьбы с ним, шли смело вперед; и та и другая держались рек и пользовались лесными пространствами для обороны дорог и жилищ; тем чаще должны были встречаться и влиять друг на друга оба колонизаторских движения. И действительно, правительство часто настигало поселенцев на их юртах; оно налагало свою руку на частнозаимочные земли, оставляло их в пользовании владельца уже на поместном праве и привлекало население вновь занятых мест к официальному участию в обороне границы. Оно в данном случае опиралось на ранее сложившуюся здесь хозяйственную деятельность и пользовалось уже существовавшими здесь общественными силами. Но вновь занимаемая правительством позиция, в свою очередь, становилась базисом дальнейшего народного движения в Поле: от новых крепостей шли далее новые заимки. Подобным взаимодействием всего лучше можно объяснить тот изумительно быстрый успех в движении на юг московского правительства, с которым мы ознакомились на предшествующих страницах. В борьбе с народным врагом обе силы, и общество и правительство, как бы наперерыв идут ему навстречу и взаимной поддержкой умножают свои силы и энергию.
Однако быстрота, с какой правительство подвигало на юг свои боевые линии, стала к концу XVI века так велика, что предупредила свободную колонизацию верховьев Сейма, Северного Донца и Оскола. За Быстрой Сосной на рубеже XVI и XVII веков еще не было сколько-нибудь заметного населения вне новых, только что возникших крепостей; по крайней мере, Маржерет, одаренный хорошей наблюдательностью, отметил, что в сторону Поля Россия обитаема только до Ливен, а далее «жители осмеливаются возделывать землю только в окрестностях городов». Чем южнее уходили в «дикое поле» московские войска, тем менее, разумеется, правительство могло рассчитывать на поддержку вольных колонистов, которые за ним уже не поспевали, и тем искусственнее создавались штаты городских гарнизонов и пограничной стражи. Различие не только в степени населенности, но и в самих типах населения очень заметно между городами, ставшими на исстари населенных местах, и городами, построенными на новозанятых землях. Более северные города изучаемой полосы приближаются, по составу своего населения, к военным городам, стоявшим на самой Оке и на литовской границе. В массе их жителей преобладает служилый люд со своими дворниками; но рядом есть посад и торг, есть люди, живущие от промысла и торговли. Город окружен густой сетью поместных владений, в которых видим обычную картину хозяйства, основанного на крестьянском труде и поверженного в кризис с его неустойчивостью. Поместья эти, судя по окладам, принадлежат не мелкопоместному люду; в его среде находим все статьи: и выбор, и дворовых, и просто городовых детей боярских. Словом, в ближайших к центру государства городах мы попадаем в обстановку, заставляющую нас забывать, что мы уже на юге от Оки, в украинных местах. Не то в городах новых, основанных по стратегическим соображениям на таких местах, где раньше не было прочных поселков и сколько-нибудь земетного оседлого населения. Здесь, на «диком поле», господствует – и в городах и вне их – та мало изученная, но очень интересная во многих отношениях среда, которую мы знаем под именем «приборных» людей: стрельцов, атаманов, казаков, ездоков, сторожей, вожей и т. п. Служилые люди по роду своих обязанностей, они были земледельцами не только на своих, от правительства им данных вблизи города землях, но и на казенной государевой десятинной пашне, которая иногда с лихвой заменяла им боярскую пашню московского центра. Прикрепленные к государевой службе и к своей стрелецкой или казачьей слободе, эти люди вовсе не были похожи на служилых людей центральной полосы, детей боярских, ни родом службы, ни характером землевладения, ни высотой общественного положения. Если дети боярские и являлись среди них, то в роли их начальников и руководителей, или же как высший привилегированный слой. Обыкновенные среднего разбора дети боярские были крупными и льготными землевладельцами по сравнению с украинными людьми, которых можно лучше всего определить как вооруженных земледельцев, обязанных государству не только ратной службой, но и земледельческим трудом. Между столь различными типами украинных городов наблюдается и промежуточный тип со всеми особенностями переходных форм. Старинные, привычные для московского человека элементы городского и уездного строя здесь налицо: есть и служилый люд, и посадский, и крестьяне. Но рядом с ними есть и новые слои – приборный люд. При этом и старое и новое, влияя одно на другое, одинаково отступают от установившейся традиции или нормы. Дети боярские, верстанные из казаков, выступают в качестве мелкопоместной крепостной пехоты. Служилые казаки, и не меняя своего названия, получают поместья. Между детьми боярскими и поместными казаками стоят доселе загадочные беломестные атаманы, которые служат атаманскую службу. Города переходного типа по составу жителей сложнее прочих и потому изучаются не с надлежащей отчетливостью и ясностью.
Далеко не обо всех южных городах есть у нас за XVI век такие сведения, которые позволили бы дать полную и точную характеристику всех этих городов. Но тем не менее на основании данных, которыми мы располагаем, можно представить примеры всех трех указанных выше типов.
К типу старых городов, подходящих к городам центра, прежде всего принадлежат Калуга, Тула и Переяславль-Рязанский – главные города изучаемой полосы. В каждом из них рядом с «городом», то есть цитаделью, существовал посад. В 1626 году, вскоре после Смуты и разорений, пережитых Калугой в 1618 и 1622 годах от врагов и пожара, на Калужском посаде считали 171 двор тяглый, до 102 обнищалых дворов; в 1654 году в мор, по официальному счету, в Калуге умерло 1836 человек, а осталось 930. Такие цифры рисуют нам Калугу со значительным населением в XVII веке и с развитым посадом (не менее 250–300 дворов) в XVI веке. От XVII века сохранились указания и на деятельность калужской таможни, намекающие на существование торгового движения и товарных складов в Калуге. Тула, уже с начала XVI столетия имевшая каменный кремль, была очень сильной крепостью. В ней в 1588–1589 годах насчитывается не менее 440 дворовладельцев дворян и детей боярских, за которыми было записано до 300 дворов и дворовых мест; на этих дворах жило не менее 325 дворников. Сверх того, в тульских слободах были помещены ратные люди низших разрядов, числа которых точно определить нельзя. В тульской книге 1588–1589 годов находятся упоминания приблизительно о 50 стрельцах, 50 затинщиках, 23 пушкарях, 16 воротниках; но этим не ограничивалось число таких служилых людей. Была в Туле и особая слобода черкас, то есть выходцев из польско-литовской «украины»; московский обычай обращал таких выходцев в особый чин служилых же людей. Размеры тульского посада в XVI веке неизвестны; для 1625 года имеем цифры: 153 тяглых двора, 62 бедных дворишка и 33 пустых двора. На небольшую торговую силу тульского посада намекают данные о состоянии тульского рынка: на нем около 300 лавок и до 150 меньших торговых помещений (скамеек, шалашей и т. д.); но из общего числа 450 помещений черным посадским людям принадлежит всего около ста: они владеют только 24 % изо всего числа лавок и шалашей. Остальная же масса принадлежит ратным людям из слобод и дворникам. В руках дворников, а не посадских людей находилась и ремесленная деятельность Тулы: дворники в числе ремесленников в Туле составляли две трети, даже более. Как ни приблизительны эти числовые данные, они, однако, убеждают в том, что тульский посад, безотносительно крупный, не был хозяином в торгово-промышленной жизни своего города. Он испытывал ту же участь, как и военные города на средней Оке, в которых военная слобода угнетала и медленно уничтожала посад. Таково же было положение дел и в Переяславле на Рязани. Здесь на торгу в 1595–1597 годах было 150 лавок, более 100 «полков» и около 80 иных торговых помещений, а с кузницами, харчевнями и т. п. всего до 400 торгово-промышленных заведений. Из них только 65, то есть 16 %, принадлежало черным посадским людям. Остальное сосредоточилось в руках или ратных людей, или же людей, зависевших от служилых и церковных землевладельцев: дворников и крестьян. Обилие ратных людей наблюдаем и в Переяславле-Рязанском: здесь есть стрельцы, затинщики и пушкари; есть даже казаки. Словом, в больших городах на московской украйне мы видим то же, что в Коломне, Серпухове и Можайске: город служит одновременно целям военно-административным и культурно-хозяйственным. Обращая его в крепость, заботясь о ее усилении, правительство делает город средоточием военного люда, который, обживаясь в городе и входя в условия городской жизни, принимает участие в торгово-промышленной деятельности коренного посадского населения. При этом посадская тяглая община или слабеет и никнет, не выдерживая конкуренции, или же играет в городе последнюю роль в ряду прочих существующих рядом с ней организаций. Таков характер главнейших украинных городов. В их число можно включить и Зарайск с его каменным кремлем и значительным посадом. На этом посаде в 1595 году было более 200 тяглых и бобыльских дворов и несколько дворовых мест пустых; в двух монастырских слободках насчитывали 87 дворов; в крепости и на посаде сверх того было 169 дворов помещиков рязанских и «каширских», очевидно помещенных здесь после разорения Каширы крымцами. В помещиковых дворах записано было 198 человек дворников; число это интересно потому, что оно почти равнялось числу тяглых людей, которых записали 208 (не считая бобылей: «бобыльские дворы в сошное письмо не положены»). К сожалению, нельзя точно определить, как распределены были между городскими жителями 326 торговавших лавок и скамей (из общего числа 400 торговых помещений в Зарайске); но, разумеется, и здесь посадские тяглые люди не пользовались исключительным правом на городской торг и промысел.
За этими сравнительно большими городами следуют менее крупные, сохранившие у себя остатки старых посадов или же образовавшие вновь небольшие посадские общины. Таковы Белёв, Венёв, Воротынск, Дедилов, Епифань, Лихвин, Мещовск, Перемышль и Путивль. О Путивле, к сожалению, имеем сведения не ранее 1626–1628 годов. В это время в нем было всего 60 тяглых да несколько обнищавших посадских дворов. Из 150 с лишком торговых помещений на путивльском рынке посадским принадлежало всего около 25; в остальных торговали ратные люди. Посад путивльский был, таким образом, мал и слаб, но населенность Путивля была, несомненно, велика. Под стенами путивльской крепости, кроме значительного гарнизона в служилых слободах, жили монастырские люди в своих слободках, в которых число дворов считалось сотнями. Как старый военный город, Путивль, очевидно, испытал одну участь с прочими подобными: господство на рынке и в промыслах перешло в нем от посадских к военным и частно-зависимым людям. Из прочих названных городов только в Белёве был, кажется, значительный посад, от которого в 1620 году осталось 24 жилых посадских двора да 88 пустых мест дворовых. Новый город Городенск на Венёве, или Венёв, в 1572 году имел 77 дворов крестьян и иных людей, «которые садилися на льготе ново» и должны были образовать посад. Почти столько же было жилых дворов черных людей и в другом новом городке – Епифани. В прочих число посадских тяглых дворов не превышало трех-четырех десятков. Некоторые же старые города к середине XVII века уже вовсе лишились посадов. По воеводским отпискам 1651 года, в Алексине, Козельске и Мценске совсем не было посадских людей; в Пронске их не видно уже в конце XVI века. Зато вырастал в них служилый элемент. Во всех этих городах были стрельцы и прочие гарнизонные люди, а со времени переустройства сторожевой службы на Поле, с 1571 года, в эти города усиленно вербовали казаков. По епифанской писцовой книге 1572 года и по дедиловской 1588–1589 годов мы можем проследить, как это делалось: как образовывались казачьи слободы около крепостей и как дворы посадских людей ради этого сносились с тех мест, где были, в «черную слободу». Приказная же справка 1577 года показывает нам, что для каждого города было даже определено необходимое число казаков: для Шацка 150, Ряжска 200, Епифани 700, Дедилова 500 и т. д. Таким образом происходило превращение старого города в постоянный лагерь пограничной милиции под давлением военных мероприятий, направленных на лучшее устройство народной обороны.
Что касается до уездов изучаемых теперь городов, то мы можем судить о составе землевладения и населения в них по изданным писцовым книгам XVI и отчасти XVII века: белёвским, медынским, тульским, каширским, венёвским, рязанским. На всем пространстве от верхней Оки и до Прони наблюдаем развитие поместного и вотчинного владения как на землях, давно занятых, так и на новых «займищах». На украинное хозяйство садятся здесь не одни мелкие люди, привязанные службой к южному городу, но и московская знать. В венёвских и епифанских местах колонизатором является князь И. Ф. Мстиславский; в Зарайске помещиками сидели князья Волконские и Кропоткины; тех же Волконских видим и в Тульском уезде; в Дедиловском уезде была вотчина князей Голицыных, в Ряжском – вотчина князя Т. Р. Трубецкого. Вообще же вотчинная собственность здесь мало заметна при широком распространении поместья. В Каширском уезде, большая часть которого лежала на правом берегу Оки, насчитывается 546 помещичьих дворов, в Тульском – 521; вотчинные же земли встречаются в этих уездах в единичных случаях, и то более за монастырями. Монастыри здесь вообще не обладают такими пространствами земли, как в центральных и северных местностях. Крестьянство, не зависящее от помещика и вотчинника, заметно только в дворцовых селах и деревнях около Венёва, но эти села и деревни взяты на государя из-за князя Мстиславского, из частной вотчины. Таким образом, как украинный город, так и украинный уезд были одинаково местом развития служилого землевладения и дворовладения. Во второй половине XVI столетия служилое землевладение на украйне несомненно делает успехи: украинные места наполняются «приходцами» с севера и количество запашки возрастает. Тульские писцовые книги дают нам интереснейшие в этом отношении показания: в Тульском уезде с 93-го по 97-й год (т. е. с 1585-го по 1589-й) прибыло «из пуста в живущее» 9775 четей доброй землей. Значение этой цифры станет вполне ясно тогда, когда мы скажем, что в 1585 году было всего «пашни паханой» 7969 четей, а в 1589 году стало ее 17 744 чети. В этот счет не входит «посадская» пашня; монастырской земли кругом Тулы было мало, таким образом, весь прирост мы в праве отнести на успехи служилого и по преимуществу поместного землевладения.
В названных уездах земельные дачи «приборных» людей, именно «деревни казачьи», едва заметны. Напротив, в городах на Поле господствующий вид землевладения, даже почти единственный, представляют собой поместья приборных людей и их свободные заимки, юрты, приравненные к известному поместному окладу. Трудами Багалея и особенно Миклашевского достаточно разъяснен порядок заселения новых мест на «Польской» украйне, и нам остается только собрать их указания в краткий очерк. Мы уже отмечали не раз, что как движение правительственных отрядов, так и свободная заимка земли в Поле держались течения рек. Новые города возникали обыкновенно при реке, вблизи той же реки намечались и земли для служилых городских людей, так что область нового уезда совпадала с бассейном реки, на которой стал город. Московские воеводы с отрядом служилых людей являлись на место, где указано было ставить город, и начинали работы; в то же время они собирали сведения «по речкам» о том, были ли здесь свободные заимщики земель. Узнав о существовании вольного населения, они приглашали его к себе, «велели со всех рек атаманом и казаком лучшим быти к себе в город»; государевым именем они «жаловали» им, то есть укрепляли за ними их юрты; затем они составляли список этих атаманов и казаков и привлекали их к государевой службе по обороне границ и нового города. Это и было первое зерно зарождавшегося здесь служилого класса. Вторым был пришлый гарнизон нового города. Меняясь в известные сроки в своем составе, он служил как бы кадром, с помощью которого устраивались понемногу постоянные группы городского населения: стрельцы, казаки, ездоки, вожи, пушкари и т. п. Все эти группы составлялись или путем перевода и перехода ратных людей из других городов на «вечное житье» в новый город или же путем «прибора» в службу свободных «гулящих» людей. Каждая группа устраивалась при крепости в особых «слободах»; слободы окружали первоначальную крепость – «город», и сами бывали обнесены валом и стеной – «острогом». За пределами острога вырастали впоследствии такие же слободы, «новоприборные» и иные. Обеспечивался гарнизон новой крепости на первых порах готовыми запасами, доставленными с севера, из других городов, а затем – собственной пашней на земле, которую ратные люди получали кругом своего города. К пашням, отводимым в очень небольших количествах, присоединялись всякие угодья. Земли обыкновенно давались каждой группе служилых людей отдельно от прочих групп, в общей меже, в количестве, равном для всех лиц данной группы. По обстоятельствам пахотная земля этих горожан иногда бывала отводима не близко от города, и тогда ее обрабатывали «наездом», выезжая из города. Пользование угодьями, особенно же лесными пасеками, также выводило служилых людей из городских стен. Город был устроен, словом, так, что его население неизбежно должно было работать в его уезде и поэтому колонизовало места, иногда очень далекие от городской черты. В свой очередь, насельники края со своими юртами обращались в помещиков, служивших со своей земли и тянувших службой и землей к тому же городу. Наконец, высылаемые сюда из северных городов на сторожевую службу дети боярские обзаводились здесь поместьями и вотчинами и составляли малочисленную сравнительно группу высших по «чину» и крупнейших по количеству земли владельцев и собственников. Так сплеталась в уезде сеть земельных владений, или созданных военно-административными мероприятиями правительства, или же пересозданных из вольной заимки в условную форму служилой собственности. Попадавший в эту сеть крестьянин садился уже на частновладельческую землю, чаще же попадал в ратную приборную службу. Крестьянские дворы в некоторых уездах почти отсутствовали, а в Белгородском и Путивльском уездах, в которых наблюдалось в начале XVII века сравнительно большое число крестьянских дворов, на одного помещика приходилось средним числом не более одного крестьянского двора и одного бобыльского, и едва ли не большинство помещиков обрабатывало землю личным трудом. Вряд ли такое отношение было благоприятным для помещиков в XVI веке, когда на Поле только что возникали и устраивались города и шла усиленная вербовка в их гарнизоны ратных людей. На помещичью пашню здесь едва ли охотно садились люди, приходившие на украйну искать землиц: им лучше было сесть на свою служилую землю, если не удавалось просто «погулять на поле» или «показаковать». Крупного монастырского или боярского землевладения на Поле в XVI веке не видим; здесь господствует мелкопоместное хозяйство и есть только одна крупная запашка – на «государевой десятинной пашне», которую пахали по наряду, сверх своей собственной, все мелкие ратные люди из городов. Эта пашня была заведена для пополнения казенных житниц, из которых хлеб расходовался на разнообразные нужды. Им довольствовали тех гарнизонных людей, которые не имели своего хозяйства и состояли в гарнизоне временно, «по годом». Казенный хлеб посылали, далее, в новые города, военное население которых еще не успело завести своей пашни; так, Елец и Оскол снабжали хлебом Царев-Борисов. Донские казаки, не пахавшие земли, получали хлеб в виде «государева жалованья» из тех же казенных житниц. Крупные размеры запашки на государя, доходившие в некоторых городах до 200 десятин в поле, должны были обременять население, принудительно работавшее на десятинной пашне, и возбуждать в нем недовольство условиями своего быта. Успех самозванческой агитации в южных городах в начале XVII века, без сомнения, следует поставить в связь с этим недовольством.
Таков состав южного московского уезда. Он так же однороден, как и состав северного уезда, только там население сплошь промышленное, а здесь исключительно служилое, военно-земледельческое. Южный уезд так же, как и северный, крепко связан со своим городом, но на севере эта связь основана на отношениях экономического порядка, а здесь – на военно-административных. На севере преобладающее значение имеют представители крупного земельного и торгового капитала, на юге, на Поле, – мелкопоместный люд, сильный военной организацией. Трудно представить себе что-либо более несоответственное одно другому, более далекое одно от другого по условиям общественным и хозяйственным.