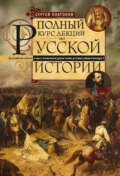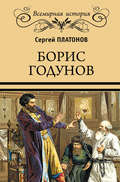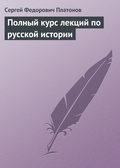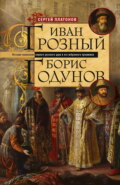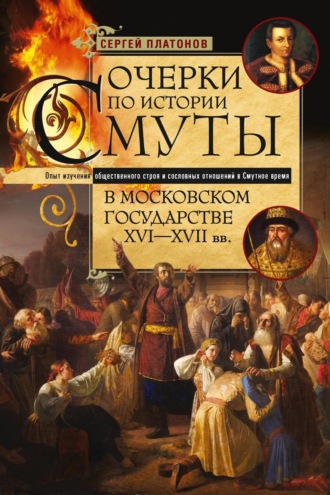
Сергей Платонов
Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI— XVII вв. Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время
Еще в большей степени сибирские дела влияли на Пермский край, который прикрывал с востока вятские места и все Поморье от татар, вогуличей и остяков. Военное значение Пермского края чувствовалось и после утверждения Москвы в Сибирском царстве: еще в 1609 году пермичи писали про свой край, что у них «место порубежное», требующее осторожности и особой охраны. В сущности, поход за Камень, приведший к покорению царства Кучума, был одним из военно-пограничных предприятий, к которым Пермь издавна привыкла; он составил решительный шаг в том деле замирения северо-восточной окраины государства, которое считалось прямой задачей пермской администрации и пермского населения. Вспомним, что самое пожалование Строгановым земель по рр. Каме и Чусовой было обусловлено обязанностью устроить военную защиту пожалованных мест и что в 1572 году Строгановы приглашались с их ратными людьми усмирять изменившую царю черемису и других инородцев. Обращение окраинных земель в частную собственность богатой средствами и силами семьи Строгановых мы считаем таким же правительственным приемом, как и тот, который мы указали в Беломорье в отношении Соловецкого монастыря. И здесь и там не хватало у правительства собственных средств; оно пользовалось бывшими налицо частными силами, передавая им свои функции и взамен создавая широкие льготы и исключительные права своим помощникам. Так на пермской окраине возник в XVI веке ряд крепостей, правительственных и частных, обращенных на восток и послуживших операционным базисом не только при завоевании Сибирского царства, но и при его заселении и переустройстве на московский лад.
Из правительственных городов первое место в Пермском крае безраздельно принадлежало Чердыни до самого исхода XVI века, до тех пор, пока старый путь в Сибирь, шедший через Чердынь, не был заменен более короткой дорогой, прошедшей от Соликамска прямо на Верхотурье, минуя Чердынь. С этой заменой роль передаточного пункта между Москвой и Сибирью перешла к Соликамску, а Чердынь осталась при старом своем значении – административного центра инородческой окраины. Оба эти городка были невелики. В Чердыни было около 300 тяглых дворов в 1579 году, и число это несколько уменьшилось (до 276) к 1623–1624 годам; в Соликамске считали 352 тяглых двора в 1579 году и 333 в 1623–1624 годах. Оба города имели цитадели – деревянные «города» небольшого размера, – и у обоих посады были защищены вторыми, внешними стенами – острогами. Третий город Пермской земли Кай был еще меньше: в нем число дворов не превышало 150 даже в исходе XVII века. Значение этого города состояло в том, что он находился на распутье дорог, шедших из Перми Великой на Двину и Москву, и был самым западным пунктом Пермской земли, чрез который она сообщалась с остальными государствами. Во владениях Строгановых в XVI веке выстроено было три городка, слывших под названием «слобод»: Канкор на Каме, уступленный владельцами Пыскорскому Спасскому монастырю, Орел (или Кергедан) на Каме же и Чусовая слобода на р. Чусовой. Если не ошибаемся, ни в одном из этих городков не было и сотни дворов. Трудно, конечно, определить степень населенности Пермского края в XVI веке, в то время когда русское население в нем едва оседало, но нельзя сомневаться, что населения там не было много. В 1579 году в Чердынском уезде переписано было 1218 дворов, в Соликамском всего 144 двора. Что было за Строгановыми в 1579 году, точно сказать нельзя, но в 1623–1624 годах за ними считалось 933 двора во всем Пермском крае; для времени на сорок лет ранее это число надобно уменьшить. Как бы ни были преуменьшены, сравнительно с действительностью, все эти цифры фискальных ведомостей, они говорят нам все-таки очень красноречиво о слабой населенности Перми Великой. Ни особенных богатств, ни торгового оживления, ни развитой производительности нам нечего искать на этой окраине. Солеварение, выделка кож, охота, кое-где землепашество, торговля с инородцами камскими, вычегодскими, печорскими – вот занятия пермского населения. Если в этом краю Строгановым удалось так скоро и прочно поставить сложное и богатое хозяйство, то причины этого не в сказочном богатстве захваченных ими в Великой Перми земель, а в старых источниках их экономической мощи, вообще еще мало исследованных. Дружина Ермака вряд ли бы выросла до 850 человек, если бы ее вербовали силами одних пермских строгановских вотчин. Она создана была на те же ранее скопленные средства, на которые содержалась и 1000 «казаков с пищалми», посланных Строгановыми в 1572 году на царскую службу против крымцев[5].
До сих пор мы изучали в Поморье главнейшие места торга и промысла и пути, соединявшие эти места между собой и с центром государства. Нельзя сомневаться в том, что за исключением разве Архангельского порта, все торгово-промышленные пункты в крае держались на местных промыслах и питали свой торг продуктами местной производительности. Эти продукты отличались значительным разнообразием и находили хороший сбыт и на внутренние рынки и за границу. Между ними главное место занимали меха, рыба и соль и далеко не главное – хлеб. По условиям климата и почвы, пашня и покос на севере не везде были возможны и почти нигде не были исключительным видом хозяйственного труда. Вот почему, как ни малолюден был московский север, как ни мало было на нем крупных торгово-промышленных поселений, он все-таки имел характер торгово-промышленного района сравнительно с московским земледельческим югом. Этим мы вовсе не хотим сказать, что в Поморье не было земледельческих хозяйств. Напротив, можно даже удивляться той настойчивости, с какой житель северного края держался за соху при самых дурных условиях земледельческого труда. Надобно только помнить, что этот земледельческий труд был для него, в большинстве случаев, хозяйственным подспорьем, а не основанием его хозяйства. При постоянных недородах и малоурожайности земледелие на севере оправдывалось только необходимостью: разобщенные между собой, удаленные от крупных рынков северные поселки не могли рассчитывать на правильный подвоз хлеба с юга, на возможность скорой и удобной мены на хлеб того товара, которым они бывали богаты. Так обстоятельства создавали жителю Поморья двойственную физиономию – промышленника и земледельца, пахаря и в то же время солевара, рыболова, зверолова и т. п. Чем далее на север, тем заметнее становился элемент промышленный; чем гуще было инородческое население, тем слабее была способность и наклонность к землепашеству.
В такой обстановке жизни и труда какая общественная организация господствовала в крае? Давно замечено, что на севере Московского государства не было того служилого землевладения, которое так характерно для западных, центральных и южных частей страны. Служилый вотчинник или помещик не был надобен на севере с его дорого обходившейся службой. Слишком много стоило бы правительству содержание помещика и его конной дворни в стороне, где из 10 лет только 4 было урожайных и где к тому же полевая конница не была пригодна, потому что враг или приходил на ладьях по морю и рекам, как «свейские» и «каянские немцы», или держался в лесах и топях, пустоша страну «изгоном», как делали инородцы на востоке. Против этих врагов нужна была крепостная ограда и пограничный сторожевой пост на укрепленной границе; а за укреплениями хорошо служил и пеший стрелец или пушкарь, содержание которого стоило немного, который получал весьма малый земельный надел, и то не всегда, и умел совмещать службу с промыслом и торгом. Стрельцы же действовали и в открытом поле, вместе с казаками и даточными «посошными» или «подымными» людьми, которые нанимались и набирались на случай, в трудное время, когда ждали войны. Правительство ничего не тратило на этих последних: казаков и даточных людей содержали те, кто их нанимал или кто их выбирал, то есть города или землевладельцы. Соловецкий монастырь содержал даже и стрелецкие войска, бывшие в его владениях. Итак, на Севере были только гарнизонные войска и не было землевладельческого служилого класса; но это не значит, что там не было частного землевладения вообще. Во-первых, монастыри, как упоминалось выше, с большим успехом копили земли, получая их от государя или приобретая из частных, крестьянских рук. В монастырских вотчинах, как известно, существовал порядок, совершенно подобный порядку в крупных земельных хозяйствах привилегированных светских владельцев, дело велось руками монастырских крестьян и половников, над которыми тяготело уже прикрепление, имевшее опору если не в прямом государевом указе, то в укоренившемся юридическом обычае. Во-вторых, на праве личном владели земляки и светские люди: или последние потомки новгородского и двинского боярства, удержавшиеся на обломках конфискованных Москвой боярщин, или «своеземцы» из крестьянской среды, разбогатевшие от счастливого торга и промысла. В-третьих, землевладельцем Поморского края можно считать и самого великого государя Московского, если помнить, что в Поморье были «дворцовые» земли, и если признавать, что право собственности на «черные» земли принадлежало не их действительным владельцам, а великому государю. Принимая эту точку зрения, мы можем не вводить в наш перечень владельческих элементов в крае – крестьян, «владевших своими деревнями», сидевших «на государевой земле», но на своих «ржах и роспашах». В-четвертых, наконец, правами землевладельческими пользовались церкви. Они в северном крае имели своеобразное общественное значение, служа не для одной только молитвы. Церковная трапеза была местом для мирского схода и суда; при церкви призревались убогие и бедные. Отсюда та заботливость, с какой северное крестьянство относилось к благосостоянию своих церквей.
Такое распределение права собственности на землю придавало московскому северу оттенок демократичности. Высший слой московского общества – боярство и московское дворянство – отсутствовал в этом крае. Из местных землевладельцев не могло составиться такого круга привилегированных лиц, который мог бы усвоить себе политические притязания на почве аграрного господства и мог бы увлекать за собой население к достижению местных и частных целей. Владельцы старых «боярщин» и вновь разжившиеся семьи, вроде вычегодских Строгановых, чердынских Могильниковых, двинских Бажениных и др., были редкими исключениями, жили и действовали в одиночку и не всегда успевали даже обелять свое тяглое богатство. Монастыри же в сфере земельного хозяйства искали только хозяйственного дохода и не обращали своих сил и средств на сторонние цели. На монастырских землях, как бы ни была велика зависимость земледельца от монастыря, крестьянин чувствовал государево тягло, которое падало на его крестьянский «мир» и давало этому миру известное устройство. Тот же «мир» – крестьянский или посадский – действовал уже с полной свободой от частных воздействий на черных и дворцовых землях – «в государевой вотчине, а в своем поселье». «Мир» – это и есть та общественная форма, которой преимущественно жил Север; она смотрит на нас отовсюду: и с государевой земли, и из-за монастырского тархана, и из-за строгановских льгот.
Как известно, старые представления об этом «мире», то есть тяглой севернорусской общине, потерпели крушение после наблюдений А. Я. Ефименко и последующих исследований. Теперь вряд ли кто решится представлять себе «волость» XVI века с теми чертами крестьянской общины, какие, по указанию позднейшей практики, получили определение в 113-й статье Положения 19 февраля 1861 года. Осторожнее не настаивать на существовании в волостях не только общинного хозяйства с земельными переделами, но и вообще однообразного порядка землевладения и землепользования. Объединенная податным окладом и организованная в целях правительственно-финансовых, «волость» (и всякое аналогичное ей деление) прикрывала своей внешней податной, а местами и судебно-полицейской организацией весьма различный хозяйственный строй – от патриархально-родовой общины до простой совокупности частных хозяйств, принадлежащих владельцам разного общественного положения. Но это разнообразие внутреннего строения тяглых общин не мешало им выработать твердый и однообразный порядок в разверстке и отбывании государева тягла и в устройстве общинного управления, отданного властью в руки самих тяглых общин. Как совокупность плательщиков, организующих порядок своего платежа и наблюдающих за исправностью податных хозяйств, волостной «мир» представляет собой нечто определенное и однообразное, такую действительную силу, которой правительство не колеблется вверить не один сбор подати, но и охрану полицейского порядка и вообще администрацию и суд в губных и земских учреждениях. Особенно интересно, что губное право распространяется в XVI веке не в одних государевых черных землях, но и среди крестьянских «миров», живущих в монастырских вотчинах. В смутную пору, как увидим в своем месте, тяглые «миры» Поморья явили большую способность к самодеятельности и нашли в себе и средства и людей как для устройства своих внутренних дел, так и для борьбы за то, что они считали законным и правым.
Таким представляется нам московское Поморье.
II
Замосковные города. Характеристика замосковных городов и уездов
Переходя к старинному московскому центру, носившему своеобразное название замосковных городов, попытаемся прежде всего указать границы этого центра. Их можно определить только приблизительно. На севере границей служил водораздел между северными реками и водами Волжского бассейна, кончая Ветлугой. За этой рекой на восток начинались поселения инородцев; они-то, спускаясь к югу, и образовывали собой восточную границу замосковных городов. Она шла по Ветлуге, пересекала Волгу западнее Васильсурска и, направляясь между Окой и Сурой на Арзамас, от него поворачивала к Мурому на Оку. Там, где давно осилил в населении русский элемент, была замосковная волость; там, где начинались инородческие поселки черемис, мордвы, чувашей, татар, начинался Низ, понизовые города. Этнографический рубеж, всегда отличающийся неопределенностью, и здесь намечался приблизительно: московские люди ставили Нижний Новгород, Арзамас и Муром иногда в число понизовых, иногда же в число замосковных городов. Дойдя до Оки у Мурома, граница шла по прямой линии на Коломну, оставляя города, стоящие на самой Оке, вне Замосковного района, в разряде рязанских. От Коломны через Серпухов и Можайск (по р. Протве) она выходила далее на верховья Волги и на водораздел между этой рекой и реками Ильменя и Ладожского озера; следуя по водоразделу, она доходила до белозерских мест, где уже начиналось Поморье. В указанных пределах лежали земли старых великих княжений Владимирского, Московского, Суздальско-Нижегородского и Тверского, составлявшие коренное Великорусье, обладавшее издавна плотным населением, сравнительно высокой хозяйственной культурой, промышленным и торговым оживлением. Кроме Москвы, в этом пространстве было несколько первостепенных по торговому и промышленному значению городов. Вологда, Ярославль и Нижний Новгород были крупнейшими во всем государстве городскими поселениями, с которыми могли равняться, кроме столицы, только Великий Новгород и Псков. Торговое движение совершалось по многим давно проторенным и налаженным путям; некоторые из них имели большое значение для страны и пользовались известностью в XVI–XVII веках. Таков прежде всего путь из Москвы на север через Троице-Сергиеву лавру, Александрову слободу, Переяславль-Залесский, Ростов и Ярославль. От Ярославля далее этот путь разветвлялся. Прямо он шел на Вологду и связывал Москву с Поморьем. Левее, по Волге и Мологе, он вел в старую Бежецкую пятину, а по Волге и Шексне он шел на Белоозеро и связывал Москву с Каргопольским уездом, Обонежьем и Приладожьем. Так было летом; зимой с устьев Мологи и с Шексны ездили на Москву через Углич. Вправо от Ярославля шел путь на Кострому и Нижний Новгород в среднее Поволжье и соединял это последнее через Вологду с Северной Двиной. Через Кострому от Ярославля ехали на Галич и Вятку; этот путь знал уже Герберштейн, но в его время на галицкой дороге грабили еще незамиренные черемисы; позднее эта галицкая дорога стала ветвью сибирской дороги, пошедшей от Нижнего на Яранск и далее.
В этой сети путей важнейшее значение имели Вологда с Ярославлем. Вологда по своему положению была неизбежной станцией для всякого товара, шедшего с Поволжья на север и с севера в центр государства, и притом такой станцией, где товар должен был перегружаться с телег и саней на суда или обратно и иногда выжидать полой воды или зимнего пути. Когда устроился в устьях Северной Двины торг с иноземцами, весь среднерусский отпуск в Архангельский порт сосредоточивался весной в Вологде и перед погрузкой на суда подвергался таможенному досмотру. Иноземцы, главным образом англичане, сами являлись в Вологду для закупки товаров по более сходной цене, минуя лишних посредников, и сами везли с моря товары по Двине до Вологды, устроив здесь для них свои дворы. Таким образом Вологда стала играть важную роль во внешней торговле государства, не утратив и прежнего значения посредницы между Поморьем и центральными московскими областями. Этим объясняется большой рост Вологды в XVI веке и внимание, которым дарил ее Иоанн Грозный. При самом начале своих сношений с Москвой англичане уже разведали, что Вологда – лучшее место для склада английских товаров, потому что она отлично расположена и торгует со всеми городами Московского государства, и они построили там свой дом, «обширный, как замок», по выражению Исаака Массы. Заграничный торг так оживил и без того процветающий город, что сам царь приехал в Вологду и выстроил в ней каменный большой кремль. С тех пор, с 60-х годов XVI века, Вологда заняла одно из самых видных мест в государстве. Особенно оживая в известные периоды – пред открытием архангельского торга, при начале навигации по Сухоне и Двине и после окончания этого торга, когда заморские товары шли вглубь страны через Вологду, – Вологда и в остальное время года не замирала. Город славился культурой льна, прядильным и ткацким делом, кожевенным производством и вел самый разнообразный торг. К сожалению, от XVI века не сохранилось точных сведений о величине города и о составе его населения, и мы должны довольствоваться самыми общими отзывами иностранцев, которым Вологда представлялась большим городом с развитой торговлей. Официальные сведения получаем от XVII века; самые ранние относятся к 1627 году, к тому времени, когда Вологда еще не оправилась от потрясений Смутного времени. Писцовая книга 7135 (1627) года, по изложению А. Е. Мерцалова, насчитывает около 1000 жилых дворов в городе (423) и на посаде (518), да сверх того 155 пустых дворов и до 400 пустых дворовых мест. Уже одно это количество пустых дворов и мест склоняет к мысли, что «вологодское разоренье» было велико; совсем же утверждают в ней следующие данные: из всего числа жилых дворов в Вологде только 302 жилых двора принадлежало собственно тяглому торгово-промышленному населению, и в их числе всего один двор был сосчитан «лучшим», три – «средними» и 112 – «молодшими»; остальное была беднота, «не пригодившаяся въ тягло». Из этого ужасного состояния вологжане, однако, скоро вышли: в 1678 году по переписной книге в Вологде «на посаде» было уже 975 дворов, а всего с дворами в городе считалось 1420 дворов. Это для конца XVII века очень высокая цифра. Не считая Великого Новгорода и Пскова, о которых будет особая речь, Вологда числом дворов уступала по переписи 1678 года только Москве (4845 дворов) и Ярославлю (2236 дворов)[6].
Если Вологда была конечным узлом северных путей, шедших в центр государства, узлом, в котором они соединялись в один общий путь, то Ярославль был перекрестком, в котором пересекались пути, соединявшие восток и запад, север и юг Московского государства. Мы видели, сколько дорог расходилось из Ярославля на Нижний Новгород, Галич, Вологду, Белоозеро и в Новгородский край, не считая дорог на Москву и Углич, соединявших Ярославль с московским югом. Одна только стольная Москва могла поспорить в этом отношении с Ярославлем, представляя собой такое же скрещение путей, уже давно и столь хорошо описанное С. М. Соловьевым. Не мудрено, что Ярославль был так многолюден и оживлен и слыл одним из самых красивых городов. «Строением церковным вельми украшен и посадами велик», – говорит о нем даже сухая «Книга Большому чертежу»; англичане Ченслер, Флетчер и Томас Смит называют Ярославль большим, красивым и богатым городом. Только укрепления Ярославля, к его несчастью, не содержались в должном порядке ни до Смуты, ни после нее. Красота ярославских церквей известна современным нам археологам; величина посадов ярославских определяется приведенным выше числом посадских дворов, которых в 1678 году занесли в переписную книгу 2236; по сметным же книгам Ярославля дворов «посадских, жилецких и беломестцев всяких людей» считалось в городе, на посаде и по слободам в 1669 году 2803, а в 1678 году – 2861; а во дворах было переписано одних только способных носить оружие людей в 1669 году 3468 человек, в 1678 году – 3720 человек. Конечно, для конца XVI века эти цифры следует изменить, вероятно уменьшив их, но они все-таки могут дать понятие о том, насколько Ярославль превосходил в отношении населенности другие города Московского государства. Трудно перечислить все промыслы и торги, которыми кормились ярославские жители; город принимал деятельное участие как в местном торговом движении Поволжья, так и в торге с иноземцами, и на его рынках и пристанях обращалось решительно все, что поступало в торговый обмен и промысловый оборот; в уезде же Ярославском было развито ткацкое дело, а на Волге – рыбные промыслы.
На дороге между Вологдой и Ярославлем не было сколько-нибудь важных поселков, хотя страна была, по отзывам англичан середины XVI века, очень населена. Между Ярославлем и Москвой были старые города Ростов и Переяславль и знаменитый Троице-Сергиев монастырь, получивший в середине XVI века надежные каменные стены. Насколько можно судить по дозорной книге Ростова 1619 года о состоянии города до Смутного времени, Ростов не процветал и держался былой славой и митрополичьим двором. Томас Смит, видевший Ростов в 1604–1605 годах, говорит о нем, что это «старинный, но полуразрушенный большой город»; описи города в XVII веке свидетельствуют уже о полном разрушении его укреплений: опись 1664 года описывает только вал со «многими порчами», а по описи 1678 года укреплений и вовсе не оказывается. Если собрать указания дозора 1619 года о прежнем составе городского населения до погромов, разоривших город в Смуту, то увидим, что в городе было около 120 дворов, принадлежавших митрополичьему штату, до 60 дворов, принадлежавших церковным притчам и монастырям, 23 «боярскихъ княженецкихъ и боярскихъ (по другому списку: монастырских) белых» двора, до 50 дворов каменщиков, рассыльщиков и ямщиков и до 200 тяглых хозяйств (дворов, полудворов и т. д.). Цифры эти приблизительны, но, во всяком случае, пригодны для того, чтобы предостеречь нас от возможности преувеличить размеры «великого» Ростова. И в XVII веке, по упомянутым описям, число посадских, годных к бою, не превышало в Ростове 700–800 человек; в XVI веке их было, конечно, меньше. В том же роде был и Переяславль-Залесский. Т. Смит замечает об этом городе, что он в упадке. Такой отзыв находит некоторое подтверждение и разъяснение в словах «сметной росписи» Переяславля 1655 года. Там говорится, что «город деревяной, опроче башен весь валится, а на башнях кровли погнили», «ров зарос и во многих местах заплыл», – разрушение давнее и полное. Населенность Переяславля в XVI веке трудно определить; но от середины XVII века сохранилось ценное указание, что все вообще население Переяславля исчисляли в 4566 человек: в мор 1654–1655 годов здесь умерло 3627 человек, а осталось в живых 939 человек. По книгам же 1678 года, в Переяславле насчитывали 946 человек, способных носить оружие, причем в это число введены были и 242 рыбных ловца из известной рыболовной слободы в Переяславле[7].
На тех дорогах, которые отделялись в Ярославле вправо и влево от главного пути на Вологду, находилось несколько примечательных городов и поселков. Недалеко от Ярославля, на высоком левом берегу Волги, лежал городок Романов, отданный при Иоанне Грозном в кормление служилым татарам Ильмурзе Исупову с детьми, а против Романова была рыболовческая Борисоглебская слобода, ныне соединенная в один уездный город с Романовом. Отдельно взятые, оба поселения не могли бы назваться крупными: в 1631 году в слободе было только 178 посадских дворов; в 1678 году в Романове был 381 двор, в слободе – 210 дворов. Но вместе два поселка образовывали людную и бойкую торгово-промышленную пристань. На р. Мологе, у границ Бежецкой пятины, лежала Устюжна Железопольская, а ниже ее по течению Мологи было торговое монастырское село Весь Ёгонская. Здесь происходили главные торги Моложского края после того, как правительство в 1563 году окончательно запретило торговать у Бориса и Глеба на Старом Холопье (верст 70 ниже Веси), где, по преданию, бывала в старину огромная ярмарка. Можно не верить баснословному описанию моложских торгов у Каменевича-Рвовского, но нужно признать, что Устюжна играла некоторую роль в торговом движении между Приладожьем и Поволжьем. В ней самой происходила главным образом выделка железа из болотной руды, чем занималась половина всех городских ремесленников (119 из 245); но по р. Мологе она получала волжские товары и передавала их новгородскому Тихвину, а оттуда, в свою очередь, получала заморские товары для передачи Москве. Положение на торговой дороге развило на Устюжне значительный торг, дававший казне более 130 руб. ежегодно таможенных пошлин. Сохранился от 1642 года акт, в котором описана эта «дорога из-за рубежа к Москве старинная, прямая»: «От Орешка Ладожским озером на Сяское устье… и Сясью и Тихвиной реками приезжают на Тихвину, а с Тихвины ездят к Москве и по городом на Устюжну, в Кашин, в Дмитров». Торговое движение на прямой, старинной дороге, а также связь (через волость Устреку) с знаменитым Мстинским путем, по которому главным образом шли сношения Великого Новгорода с Замосковьем, – вот что поддерживало Устюжну и делало ее весьма заметным центром Моложского края. Это был довольно большой, хотя и пустевший, город: в исходе XVI века в нем считали 275 жилых дворов церковных и тяглых владельцев и 303 пустых двора и дворовых места. Что же касается до числа населения в городе, то об этом можем заключать только косвенно: когда в 1609 году устюжанам пришлось обороняться от тушинцев, они собрали в своей только среде 600 ратников, кроме 27 дворян и детей боярских, бывших в городе. Что это были устюжане, а не случайно собравшаяся рать, заключаем, во-первых, из слов «сказания», которым пользуемся: «Прибылных же людей на Устюжне в то время не бе ниоткуду ни единаго человека»; а во-вторых, и по сотной выписи конца XVI века насчитывается на Устюжне не менее 500 взрослых посадских людей. От немецкого рубежа Устюжна была закрыта болотами, уцелевшими и до нашего времени, и потому не была в XVI веке укреплена: «В то время на Устюжне острогу и никакия крепости не имели», – говорит «сказание» о нашествии тушинцев на Устюжну. Не крепче был и Белозерск, в котором «город» был худ одинаково и в 1565, и в 1612 году; а между тем этот город был местом ссылки, смежные же с ним берега верхней Шексны, так называемые Горы, в XV–XVI веках считались не столько крепким, сколько удаленным от границ убежищем, куда можно было укрыться от нашествия неприятеля. Место, на котором стоял город Белозерский и смежные с ним монастыри – и между ними главнейший Кириллов, – было замечательно как волок. К нему сошлись воды Волжского, Двинского и Онежского речных бассейнов; недалеко было и озеро Онежское. На таком месте не могло не быть торга; таможенные грамоты 1497 и 1551 годов удостоверяют, что он был и уже в 1497 году давал правительству большой таможенный доход – 120 руб. в год. Главные связи у Белоозера были с севером, откуда белозерцы получали соль и меха, отправляя туда хлеб; но торговали они с Приладожьем через Устюжну и Вытегру. Местным промыслом был рыбный; в городе существовал особый «рыбный двор», ведавший рыбные ловы на государя. Населенность Белозерского города определяется только для второй половины XVII века, в нем было в 1678 году 262 двора на посаде, а в 1660 году насчитывалось около 600 посадских людей, годных к бою. Значение второго центра в Белозерском крае имел Кириллов монастырь, развивший на своих землях громадное хозяйство. От Белого моря и до Москвы разбросаны были эти земли и на них заведены были, рядом с пашнями, разнообразные промыслы. В Поморье был у монастыря главный промысел – соляные варницы, из которых добычу «проводили водяным путем на Вологду», в оттуда, главным образом по многоводной Шексне, развозили по разным рынкам: по словам монастырских властей, они «ту соль продают на Двине, и во Твери, и в Торжку, и на Угличе, и на Кимре, и в Дмитрове, и в Ростове, и на Кинешме, и на Вологде, и на Белоозере с пригороды и по иным местам: где соль живет поценнее, и они тут и продают». Избыток хозяйственных сил и средств позволял монастырю избирать лучшие места сбыта, а влияние его властей в столице вело к освобождению прибыльного торга ото всяких пошлинных сборов. Монастырь богател и мало-помалу собирал в свои руки земли и воды по Шексне, овладевая исподволь тем краем, в котором сам находился. На рубеже XVI и XVII столетий власти монастыря получили разрешение перевести ярмарочные торги из-под самого монастыря в свою волость Словенский Волочок, верст за 50 от Белозерского города, и там устроили такой великий торг, что сразу отвлекли от города всех приезжих торговых людей; казне пришлось при этом охранять свои интересы, устраивая в новом торге новую таможню и ограничивая льготы, данные монастырю. Такова была сила монастыря в Белозерском крае.
Если перейдем на восток от линии Ярославль – Вологда за р. Кострому, то между рр. Костромой и Унжей встретим старинные поселения удельного Галицкого княжения – город Галич-Мерьский с его пригородами: Солигаличем, Чухломой, Унжей, Парфеньевым, Кологривом и др. Леса костромские по Костроме, унженские (или унежские) по Унже с двух сторон составляли естественную границу Галичского уезда, придавая ему характер обособленности: Галич был центром этого уезда; Кострома и Тотьма были как бы выходами из него на юг и север. Рыболовство, лесные промыслы, варка соли, землепашество составляли занятия жителей этого края. Давность поселений и хозяйственной культуры в крае сказывалась, с одной стороны, в очень значительной, сравнительно, населенности края, а с другой стороны, в крепости внутренних связей, сложившихся ко времени смут XVII века. В 1608 году галицкие тяглые люди собрали против «воров» посоху по сту человек с сохи и держались, несмотря на измену галицких служилых людей. Такое большое число ратников с сохи возможно было собрать только при многолюдстве в податных сохах. Из росписи, составленной, правда, лет на 70 позднее, узнаем, что Галицкий уезд был одним из самых богатых по населению во всем государстве: заключая в себе более 31 тыс. тяглых дворов, он по населенности занимал пятое место в ряду центральных московских уездов. Соответственно общей населенности и главные города в уезде были хорошо населены. В середине XVII века в Галиче считали тяглых 729 дворов, а в них 1755 человек; в это время, в 40-х годах XVII века, Галич уже успел оправиться от разгрома, постигшего его в смуту, и снова наполнился народом. Но двадцать лет ранее, в 1628 году, он еще пустовал: по письму кн. Никифора Мещерского, в это время в нем было 211 пустых тяглых дворов, 47 пустых же дворовых мест и всего 361 жилой двор. В это последнее число входило 38 «молодчих» дворов, 172 двора «бобыльских» и «худых», «которые в сошное письмо с тяглыми людьми не погодятся, а имать с них оброк»; остальное же были нищие, кормились «по наймам и меж двор». В 1620 году пустоты было еще больше: при 263 жилых, тяглых и нетяглых, дворах считали 258 пустых дворов и мест, а на торгу на 34 лавки приходилась сотня пустых лавочных мест. Таких ранних известий о пригородах Галича мы не имеем. По книгам 1646–1648 годов считали в Солигаличе 339 дворов и 780 человек; Чухлома, Унжа, Парфеньев, второстепенные галицкие городки, были малы: ни один не имел даже сотни дворов. Укрепления в Галиче были невелики: деревянный город на осыпи, в окружности всего 470 сажен; а в Соли Галицкой они сверх того были и плохи: «Около посаду острогу нет, и город сгнил и розвалялся, и наряду и зелья (орудий и пороху) нет, кропиться нечему» – так говорили в 1609 году жители Соли[8].