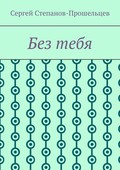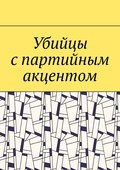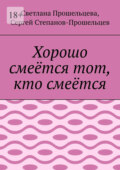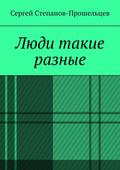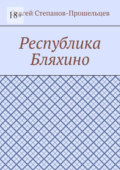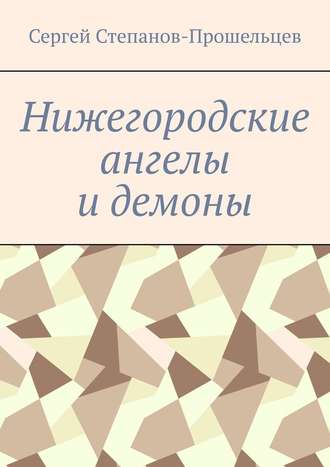
Сергей Павлович Степанов-Прошельцев
Нижегородские ангелы и демоны. Известные и неизвестные люди Понизовья
АВВАКУМ ПЕТРОВ (1620—1682)
14 апреля 1682 года, при большом стечении народа в Пустозёрске был сожжён главный идеолог старообрядчества протопоп Аввакум.
Вместе с дымом – к небу
Весна в том году была запоздалой, морозы не унимались даже в апреле. Когда стрельцы в красных кафтанах опустили в пятисаженную яму жердь и помогли выбраться оттуда Аввакуму, он дрожал в своем худом тулупчике.
Шел опальный протопоп с непокрытой головой – согбенный, тощий – в чём только душа держалась? Почти 15 лет провел он в земляной тюрьме, заедаем вшою, страдая от ревматизма, от язв, оставленных кнутом и дыбой в московских застенках. Но протопоп ступал твёрдо, как будто ничего такого и не было. Седая борода его дымилась от холодного пара, лапти чавкали в грязи, но он – странное дело! – улыбался. Потому что, как никогда раньше, ощущал свою близость к Богу.
Они обнялись – единоверцы Аввакум, Фёдор, Лазарь и Епифаний. Никто не уговаривал их отречься. Царские сатрапы знали: это бесполезно. Они все равно не могли этого сделать: у Лазаря и Епифания вырезали языки. И узников привязали к осиновым столбам, врытым по углам сруба. Палачи завалили их по пояс хворостом, дровами и берестой.
Но костер долго не разгорался. Аввакум глядел на тлеющий хворост, и улыбка не сходила с его лица. Он был вроде бы еще здесь и одновременно уже в другом измерении: душа его устремлялась в небо – к святости и бессмертию.
Дунул ветер, и огонь вздулся огромным пузырём. Веревки, стягивающие протопопа, ослабли, его рука простерлась над толпой. Пальцы сложились в двуперстие, и неожиданно зычный голос заставил вздрогнуть всех, кто, сняв шапки, стоял у пылавшего сруба:
– Молитесь! Молитесь таким крестом, и Русь вовек не погибнет.
Непримиримые враги
Летом 1991 года в селе Григорове, что возле Большого Мурашкина, открывали памятник лидеру русского раскола протопопу Аввакуму. Это торжественное мероприятие было приурочено к 360-й годовщине со дня рождения неутомимого борца с необоснованными, на его взгляд, реформами Православной церкви.
Другой памятник – патриарху Никону – установлен в селе Вельдеманово, что рядом с Перевозом. Это – родина противника Аввакума, патриарха Никона, который появился на свет шестнадцатью годами раньше.
Добраться из Григорова в Вельдеманово даже на своих двоих можно часа за три. Конечно же, Никон (в миру Никита Минин, между прочим, мордвин по национальности) и Аввакум Петрович знали друг друга. Оба поначалу крестились одинаково: двуперстием. Оба при патриархе Иосифе занимались исправлением церковных книг, но в них оказалось ещё больше погрешностей и разночтений с греческими церковными книгами, чем было до этого.
Никон
После смерти отца Никон женился, принял священство и получил приход в Москве. Но тут один за другим умирают трое его малолетних детей, и смерть их так потрясла Никона, что он вместе с супругой постригся в монахи. В 1643 году его выбирают игуменом Кожеозёрского монастыря.
Спустя три года молодого игумена заметил царь Алексей Михайлович. Он был переведён в Москву и посвящён в архимандриты Новоспасского монастыря, где была родовая усыпальница Романовых. В 1648 году Никон был возведён в сан митрополита Новгородского и потихоньку начинает проводить в жизнь в своей епархии церковные реформы, которые впоследствии расколют Русь на два враждебных лагеря.
В 1652 году после смерти Иосифа Никон был избран патриархом. Современники рисуют его портрет так: тучный великан с густыми иссиня-черными волнистыми волосами, окладистой бородой, широким лбом, надменным взором и плебейским багрово-красным цветом лица. Всё это дополнялось крайней раздражительностью, мстительностью и тщеславием.
По распоряжению Никона вновь были исправлены тексты богослужебных книг, двуперстие заменено троеперстием, движение вокруг аналоя в церкви производилось теперь не по ходу Солнца, а против него, изменялся и целый ряд других церковных обрядов. Для многих верующих это было великим грехом, посягательством на незыблемые религиозные устои. На защиту их встали священники Неронов, Вонифатьев, Логгин, Лазарь и Аввакум.
Аввакум Петров мог умереть раньше
Аввакум подвергся репрессиям за свои проповеди сразу же после ареста Ивана Неронова. «Посадили меня на телегу и растянули руки и везли — от патриархова двора до Андроньева монастыря, – писал он в своем „Житии“. – И тут на цепи кинули в темницу, и сидел три дня, не ел, не пил, — во тьме сидя, кланялся, не знаю: на восток ли, на запад. Никто ко мне не приходил, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно». (Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Горький, Волго-Вятское книжное издательство, 1988).
Протопоп мог умереть, если бы не боярыня Феодосия Морозова, которая потом сама скончалась от голода в грязной яме. Но это случится через 20 с лишним лет – осенью 1675 года.
А тогда Аввакума сослали в Тобольск. Шесть лет он состоял при воеводе Афанасии Пашкове, посланном для завоевания Даурии. Но Пашков всячески измывался над Аввакумом и его семьей. Бил его самолично и по щекам, и по голове, и кнутом. «Ко всякому удару молитву говорил, – писал протопоп, — да среди побой вскричал я к нему: „Полно бить-то!“. Так он велел перестать, оттащить меня в дощаник. Сковали руки-ноги и кинули. Осень была, дождь шёл, всю нощь под капелью лежал» (там же).
В другой раз отрезали у него бороду. «Волки, – ругал своих обидчиков Аввакум. – Один хохол оставили, что у поляка, на лбу. Везли не дорогою в монастырь, болотами, да грязью, чтобы люди не ведали. Сами видят, что дуруют, а отстать от дурна не хотят» (там же).
Однажды супруга Аввакума не выдержала.
– Долго ли, протопоп, мучения будут? – спросила она.
– До самой смерти, Марковна, до самой смерти, – ответил Аввакум.
В 1661 году царь Алексей Михайлович «амнистировал» «Никонова вражину» и позволил ему вернуться в Москву. Но протопоп добирался в Белокаменную почти три года. По пути проповедовал своё учение.
Поначалу царь демонстрировал своё расположение, однако вскоре убедился, что Аввакум не личный враг Никона, а принципиальный противник церковной реформы. Да и сам Аввакум к своему ужасу понял: никонианство пустило глубокие корни. Многие россияне побоялись, как он, высказать свой протест. Из-за одной дополнительной буквы в имени «Иисус» они не хотели попадать в застенки, на дыбу, в огонь.
«Тишайшему», как называли Алексея Михайловича, хотелось привлечь на свою сторону «ревнителя благочестия», пользовавшегося популярностью в народе за свою неустрашимость. К Никону он охладел. В 1666 году патриарх будет отрешён от сана и отправлен в дальний монастырь.
Но он пока ещё у штурвала власти, и с его подачи направляется жалоба царю на протопопа, который в своих проповедях сильнее прежнего «стал укорять и ругмя ругать архиреев, хулить четырехконечный крест» и отвергать возможность спасения по «новоисправленным богослужебным книгам».
В 1664 году Аввакум был сослан в Мезень, где продолжил свою борьбу с Никоном и его сподвижниками. Здесь он стал называть себя «рабом и посланником Исуса Христа», проклинал «немецкие поступки и обычаи». Но спустя полтора года его снова вернули в Москву – открывался церковный Собор, и архиереи ещё раз хотели попытаться склонить мятежного протопопа на свою сторону.
Тщетно! Аввакум Петров, как явствует из сохранившихся документов того времени, «покаяния и повиновения не принёс, а во всем упорствовал, ещё и освященный Собор непровославным называл» (Ремизов А. М. Звезда надзвёздная. Санкт-Петербург, издательство «Росток», 2018).
Аввакума расстригли и прокляли за обедней. В ответ на это поп-расстрига провозгласил анафему реформаторам.
– Что ты так упрям? – никак не могли понять священнослужители. – Все тремя перстами крестятся, один ты упорствуешь.
Аввакум, не слушая своих противников, неожиданно улёгся на полу. Он знал точно: если не цепляться за любое старое слово, за любую букву, за то же самое двуперстие, можно лишиться самого заветного, самой души России.
– Устал я, – сказал он. – Вы тут посидите, поговорите, а я полежу.
Но участь Аввакума и его соратников была решена. Многих из них казнили. Аввакума же только били кнутом и сослали в Пустозёрск, на хлеб и воду, в земляную тюрьму. Когда на престол вступил сын «тишайшего» Фёдор, протопоп отправил ему дерзкое послание, в котором поносил Алексея Михайловича и патриарха Иоакима. «Бог судит между мною и царем Алексеем, – писал Аввакум. — Иноземцы, что ведано им, то и творили. Своего царя, Константина, потеряв безверием, предали турку, да и моего, Алексея, в безумии поддержали» (Житие протопопа Аввакума).
Фёдор Алексеевич воспринял эти слова как угрозу существующему режиму и «за великие на царский дом хулы» приказал сжечь протопопа. (Малышев В. И. Материалы к «Летописи жизни протопопа Аввакума». Древнерусская книжность. Институт русской литературы (Пушкинский Дом). Москва-Ленинград, издательство «Наука», 1954).
Поплатились своей жизнью и его единоверцы. Староверы считают их мучениками. Есть иконы, изображающие Аввакума.
Предтеча Пушкина
В своей земляной пустозёрской тюрьме Аввакум написал 43 сочинения, 37 из которых были опубликованы в конце позапрошлого века Н. Субботиным в «Материалах для истории раскола». И литераторы тех лет были в шоке. «Это Пушкин семнадцатого столетия! — восклицали они. – Именно он заложил основы современного литературного русского языка» (Виноградов В. В. О задачах стилистики. Наблюдения над стилем Жития протопопа Аввакума. Русская речь. Сборник статей. Петроград, 1923).
Мысль об Аввакуме сопровождала раздумья Максима Горького на протяжении многих лет. Восторженно цитировал он слова Аввакума о его любви к простому русскому языку, которым он так великолепно пользовался в «Житии», в своих многочисленных посланиях.
Ещё ранее, в 1895 году, мнение о желательности включения сочинений Аввакума в учебники высказывал Л. Н. Толстой. Значение Аввакума как замечательного и своеобразного стилиста многократно подчеркивалось и другими крупнейшими русскими писателями – Иваном Тургеневым, Фёдором. Достоевским, о нём писали Иван Гончаров, Николай Лесков, Иван Бунин. «Говоря о «Слове о полку Игореве» и об автобиографии Аввакума, Д. Н. Мамин-Сибиряк заметил: «по языку нет равных этим двум гениальным произведениям» (Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания, русских писателей XVII века. Исследования и тексты. Москва, издательство Академии наук СССР, 1963).
Но Аввакум был ещё и великим провидцем. «Освятится русская земля кровью мучеников», – писал он в своем «Житие». И как в воду глядел. Сам был мучеником, а сколько было мучеников после него, никто не считал. Но выжила Русь, живёт, как он предсказывал.
ЮРИЙ РЕВСКИЙ (1678—1729)
Наверное, лет двести, если не больше, анекдоты о поручике Ржевском смешили россиян. Это был такой же национальный герой, как, скажем, Тиль Уленшпигель или бравый солдат Швейк. Но оказывается, реальный Ржевский всё же существовал. Он с 1719 по 1729 год исполнял обязанности нижегородского губернатора. И к Александру Сергеевичу Пушкину имел отношение — был его прапрадедом. Вот такая любопытная диспозиция.
Пушкинские корни
Предки Александра Сергеевича Пушкина жили на Нижегородчине. Как с отцовской, так и с материнской сторон. «Пушкины – дворянский род, происходивший от легендарного выходца „из немец мужа честна Ратши“, потомок которого в седьмом колене, Григорий Александрович, прозванный Пушка, был родоначальником Пушкиных» (Нижегородский край в словаре Брокгауза и Ефрона. Нижний Новгород, издательство «Нижегородская ярмарка», 2000).
Но откуда взялся Ржевский? Когда в 1719 году из Казанской губернии выделилась Нижегородская, Петр I назначил Нижегородским вице-губернатором капитана-поручика Преображенского полка Юрия Алексеевича Ржевского, чтобы он помог епископу Питириму обуздать мятежных раскольников, обосновавшихся в керженских лесах.
Духовному лицу прибегать к репрессиям как-то не пристало. И Ржевский принял крутые меры. В частности, под пытками вынужден был отречься от своих взглядов видный идеолог старообрядчества Александр по прозвишу Диакон, впоследствии обезглавленный; многочисленные его приверженцы мужского пола были отправлены на каторгу, а женщины – в монастыри.
Но были на счету капитана-поручика и добрые дела. В 1722 году в Нижнем Новгороде началось строительство верфи. 245 военных судов пополнили флотилию Петра I. Было окончено сооружение Алексеевской церкви на Благовещенской площади, ликвидированы последствия большого пожара…
Как сообщал тот же энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, Ржевские «вели свою родословную от Рюриковичей, а затем — от смоленских князей, владевших когда-то городом Ржевом». Юрий Ржевский родился в 1674 году. Родители его были близки к Милославским, а, следовательно, к царевне Софье. Ржевский служил стольником в царской семье, учился морскому делу в Венеции.
У Ржевского были три сына и четыре дочери. Одна из дочерей, Сарра, вышла замуж за Алексея Фёдоровича Пушкина. В браке у них родилась дочь Мария, которая впоследствии вышла замуж за Осипа Ганнибала.
Их дочь, Надежда Осиповна Ганнибал, в 1796 году связали супружеские узы с Сергеем Львовичем Пушкиным – отцом поэта.
Пирог с тараканами
Но возникает много вопросов. Вот только один: почему анекдоты связаны именно с Ржевским? Но вразумительных ответов нет и быть не может. По каким критериям выбираются герои анекдотов, не ведомо никому. Кто объяснит, например, отчего расхожими персонажами народного фольклора стали Чапаев и Петька или Штирлиц?
Первый анекдот, где фигурировал Юрий Алексеевич Ржевский, появился в 1722 году, когда Петр 1 во второй раз за время своего царствования посетил Нижний Новгород. Заглянул и к губернатору, который жил рядом с Часовой башней кремля.
Ржевский встретил его, как подобало. Слепой музыкант играл на бандуре, пленные шведы плясали, а высоких гостей усадили за обеденный стол. И в числе прочих блюд подали блинчатый пирог особой выпечки.
Царь уже отяжелел, пирог есть не стал. А наутро, когда Ржевский самолично разрезал его, из нутра пирога один за другим выбежало с десяток тараканов…
С того дня бывший капитан-поручик Преображенского полка, учившийся морскому делу в Венеции, стал героем анекдотов, к которым вряд ли имел какое-то отношение. Но так уж повелось на Руси, что анекдоты следуют сериями, а герои их одни и те же…
Серп он отправил в отставку
Сочинители баек вспомнили об указе Ржевского, подписанном им в 1721 году. И не преминули использовать его для очередного анекдота. А указ этот был весьма примечательным. Нижегородский губернатор запретил убирать хлеб серпом. Крестьянам предлагалось пользоваться косой. За ослушание следовало наказание батогами.
Ржевский лично следил, чтобы его распоряжение исполнялось. Грозился: может употребить серп и по другому назначению. Когда сарафанное радио сообщало, что губернатор выезжает с инспекторской проверкой, серп откладывали в сторону, а когда начальство исчезало, снова доставали — так убирать хлеб было привычнее. Да и колосья зерно не теряли.
Почему царь обиделся
Анекдоты связывают это с пресловутыми тараканами. Якобы слухи о них дошли и до Петра, а он отмечал в Нижнем Новгороде свое пятидесятилетие, посему и обозлился на Ржевского. Но на самом деле это не так. Ржевский был нечист на руку и запускал ту самую нечистую руку в государственную казну. Во всяком случае, жалобы на него в Сенат стали приходить десятками.
Одному из сенаторов, Семёну Салтыкову, поручили вести следствие о «неисправах». Тот сделал вывод: губернатор «пошалил изрядно» (Куприянова Н. И. Ржевский Юрий Алексеевич. Нижегородский край: Факты, события, люди. Нижний Новгород, 1997). Только при проведении переписи населения он прикарманил свыше 60 тысяч рублей — громадные по тем временам деньги. И Сенат постановил: доставить Ржевского в столицу, а «покамест означенное дело следствием окончится, до тех пор оного Ржевского не токмо в Нижний, никуда с Петербурга не отпускать» (Центральный архив Нижегородской области – ЦАНО).
Следствие продолжалось долго. Закончилось оно только тогда, когда герой анекдотов тихо отошёл в мир иной. Имущество его конфисковали, всё, что осталось у наследников нижегородского губернатора, так это только байки о бывшем капитане-поручике.
ВАНЬКА-КАИН (1718-после 1756)
В 1742 году, на Макарьевской ярмарке начались дерзкие ограбления. Неистощим был на выдумку Ванька Каин.
Месть за обиду
В 1779 году вышла в свет повесть Матвея Комарова «История Ваньки Каина». Однако её герой не забыт. Популярный в конце XIX – начале XX веков историк и писатель Даниил Мордовцев объяснял этот феномен тем, что знаменитый вор вместе с Гришкой Отрепьевым, Стенькой Разиным, Мазепой и Пугачевым был предан церковной анафеме, а у народа проклятые сильными мира сего всегда вызывали сострадание. Но, наверное, разгадка в другом: слишком яркие это были личности.
Ванька Каин (на самом деле его звали Иваном Осиповым) родился в 1718 году в крестьянской семье под Ростовом в селе Иваново (ныне Иваново-Рудаково Ярославской области). Тринадцатилетним подростком его отправили в Москву в услужение к купцу Петру Филатьеву.
Тот жил на широкую ногу: дом высокий, каменный, амбары, сад фруктовый. Но скуп был купец – держал своих холопов впроголодь. И не выдержал Ванька – проник в погреб, где припасы хранились, и был пойман. Хозяин сам высек его розгами, и затаил на него малец злобу.
Однажды Ванька познакомился с вором Камчаткой. Настоящее его имя было Петр Смирной-Закутин (по другим данным, Петр Романов). Его забрили в солдаты, но из Казани, где стоял полк, Камчатка сбежал. Он добрался до Москвы, и здесь дезертира ловят. Но Камчатке снова удается сбежать, и он становится членом воровской шайки.
Розыскного дела в архивах я не нашёл. Пользовался такими источниками, как «Исследование о Ваньке-Каине по архивным материалам Есипова» в сборнике «Осьмнадцатый век», П. Бартенева, т. III, Москва,1869, и Мордовцев Д. Ванька Каин, Исторический очерк, журнал. «Древняя и новая Россия», 1876, №№9—10. Там приводятся показания Каина: «… видя его спящего (Филатьева, – С.С.-П.), отважился тронуть в той же спальне стоящего ларца его, из которого взял денег столь довольно, чтоб нести по силе моей было… Висящее же на стене его платье на себя надел, и из дому тот же час не мешкав пошёл». Но Каин не говорит ничего о надписи, оставленной на воротах: «Пей водку, как гусь, ешь хлеб, как свинья, а работай у тебя черт, а не я». Вероятно, это более поздняя придумка. Ванька, по свидетельству современников, не умел ни читать, ни писать.
Первые «подвиги»
Камчатка повёл своего нового друга «под мост Каменный», где кучковались ворьё и разная голь кабацкая. И они приняли новичка в своё сообщество – Ванька выставил по этому случаю ведро «зелена вина».
В архивных фондах мне попалась любопытная книжица с очень длинным названием: «Жизнь и похождения российскаго Картуша, именуемаго Каина, известнаго мошенника и того ремесла людей сыщика, за раскаяние в злодействе получившаго от казны свободу, но за обращение в прежний промысел сосланнаго вечно на каторжную работу, прежде в Рогервик, а потом в Сибирь, писанная им самим, при Балтийском порте, в 1764 году» (Санкт-Петербург, 1785). Но это – явная подделка, хотя неизвестный автор, по всей видимости, всё же пользовался какими-то не дошедшими до нас источниками. От имени Ваньки Каина он рассказывает о совместном с Камчаткой преступлении – ограблении соседа Филатьева: «Пришед к попу… отпер в воротах калитку. В то время усмотрел нас церковный сторож, и, вскоча, спрашивал нас: „Что мы за люди, и не воры ли?“. Тогда товарищ мой ударил его лозою (коромыслом, – С.С.-П.) … В покое попа ничего не нашли, кроме попадьи его сарафан, да долгополый кафтан, я и облачился в него».
Рядом с медведем
Но вскоре после этого люди Филатьева отыскали Ваньку Каина. Купец приказал посадить его на цепь рядом с медведем. И не кормить – ни того, ни другого. Он думал, что с голодухи медведь съест беглого холопа.
Выручила Ваньку смазливая внешность. Дворовая девка Авдотья давно по нему сохла. Она тайком носила ему еду, а Ванька делился с косолапым. И тот его не трогал.
Однажды Авдотья шепнула Ваньке:
– Барин-то в страхе нонеча. Он солдата одного батогами потчевал, тот и окочурился враз. Тело его в сухой колодезь бросили, куда сор высыпают.
Первый донос
Утром пришёл к хозяину дома полковник Пашков, давний его знакомый. И решил Филатьев показать ему, как наказывают нерадивых холопов. Но Ванька Каин не лыком шит.
– Слово и дело государево! – крикнул он, когда повели его для показательной порки.
Это были в то время магические слова. Они означали, что человек желает донести о каких-то важных преступлениях. И Пашков, хоть и в дружестве был с хозяином дома, не мог не переправить Ваньку на Лубянку, где размещалась Тайная розыскных дел канцелярия. Он знал: в противном случае его никто не милует, головой ответит.
Московский губернатор, граф Семен Андреевич Салтыков, допросил беглого холопа. Слова его подтвердились. В заброшенном колодце нашли труп солдата, забитого до смерти. И Филатьева взяли под стражу. А Ванька согласно тогдашним законам получил волю вольную. Было ему тогда всего пятнадцать годков.
«Коновод» ворья
Очень быстро Ванька Каин стал главарем воровской шайки, а Камчатка – его подручным. Ум и хитрость вожака были оценены по достоинству. Его называли «коноводом».
Списку преступлений Каина в те годы могли бы позавидовать американские гангстеры 30-х годов прошлого века. На Яузе он грабит дом придворного лекаря Евлиха. Та же участь постигла и хоромы дворцового закройщика Рекса в Немецкой слободе. Следующая серия грабежей была совершена по наводке уже упомянутой Авдотьи, с которой Ванька Каин повстречался случайно. Она указала на дом помещика Татищева, и это преступление отличалось от всех остальных. В нем участвовала… курица, которую перекинули в огород Татищева через забор. Это был повод для того, чтобы разведать обстановку. И ночью шайка проникает в дом помещика, находит в сундуках серебряную утварь, золото, деньги. Но нести поклажу тяжело. Разбойники пробираются к дому генерала Шубина, крадут у него лошадей, забирают столовое серебро, как и всё остальное, и благополучно скрываются.
Однако полиция все ближе подбирается к Каину, и он направляется на Волгу, к Макарьеву.
Макарьевские грабежи
На ярмарке в Макарьеве людно. Идут оживленные торги, и Каин осматривается. Наибольший интерес вызывают у него амбары армянских купцов. Один из них закрывает торговлю и отправляется, чтобы купить мясо. И тогда Ванька Каин затевает самую настоящую провокацию. Он отряжает одного из членов своей шайки к гауптвахте. Тот кричит: «Караул!». Солдаты берут под ружье и незадачливого армянского купца, и каинского посланца. А Каин извещает сторожа, что его хозяин на гауптвахте. Сторож покидает свой пост, шайка вламывается в амбар и находит немалые деньги. Их зарывают в песок, ставят палатку и начинают торговать разной мелочью, купленной заранее. Полиция и не подозревает, что «купцы» являются на самом деле ворами. А когда арестованного члена шайки отпускают с миром (он заявил, что крикнул «Караул!» по ошибке), дождавшись ночи, Каин с товарищами исчезают, чтобы… снова вернуться.
Дерзость Каина поражает. В колокольном ряду он прячется под прилавком и, выбрав удобную минуту, крадет серебряный оклад иконы. Это тут же было замечено. Ваньку Каина хватают под белы рученьки. И он прибегает к уже однажды опробованному способу, кричит:
– Слово и дело!
Каина доставляют к полковнику Редькину, командированному в Макарьев с особым отрядом по сыскным делам. И Каина снова сажают на цепь.
Его выручает Петр Камчатка. Он покупает калачи и раздает их всем, в том числе и Каину. В одном из калачей спрятана отмычка. И Ванька словно растворяется в воздухе.
Он бежит к татарам и находит в их стане мурзу, спящего в своей кибитке. Даже преследуемый Каин «сшучивает шуточку». Он привязывает ногу спящего к стремени лошади, бьет её нагайкой, и испуганный жеребец скачет во весь опор, унося за собой татарина. А Каин забирает «подголовник» — подушку, на которой спал мурза. В ней — деньги.
Вскоре Ванька Каин снова оказывается в Макарьеве. Там он идет в баню, но сюда с обыском наведывается отряд драгунов. Ваньку задерживают в одних портках, но он заявляет, что в бане у него украли одежду, деньги и паспорт, а сам он – купец, который приехал сюда торговать. И его отпускают.
Каин добирается до Нижнего Новгорода в надежде встретить здесь своих товарищей. И интуиция его не обманула.
«Палочка-выручалочка»
В Нижнем Новгороде и Москве шайка гостила недолго. Этот визит Каина ознаменовался его очередным арестом. Ограбив в одном из монастырей келью грека Зефира, Каин соблазнился двумя миниатюрными пистолетами. На этом и погорел. Грек опознал их, и по его указке скупщица краденого была арестована. Она выдала место, где находился Ванька Каин. Его тоже взяли под стражу.
Но у Каина есть «палочка-выручалочка» – Петр Камчатка. Он подкупает караульного вахмистра, скупщицу краденого ведут в баню, и она исчезает. А раз нет доносителя – нет и преступления. Так рассуждали тогда в Тайной канцелярии.
Второй поход на Волгу
Каин снова на свободе. Но совершать грабежи в Москве стало опасно. И он вновь направляется на Волгу.
Шайка держит путь к Фролищевой пустыне. По дороге как бы мимоходом грабит цыганского барона. Но затем Каин изменяет первоначальный план. Он поворачивает к Шёлковому затону, расположенному на левом берегу Волги, ниже села Исады. Затон отделен от Волги песчаной косой, и «коновод» решает, что это очень удобное место для нападения на плывущие по Волге струги.
Но здесь и своих разбойников навалом. Шайка Каина вливается в ватагу Мишки Зари, в которой насчитывалось до трехсот человек. Лихие люди нападают на винный завод, грабят его, захватывают для выкупа неведомо как оказавшегося здесь «грузинского князя». После этого сподвижники Ваньки Каина скрывается в дремучих Керженских лесах.
Вотчина Шубина
Около месяца «залегала на дне» шайка. Больше Каин выдержать не смог – повёл своих удальцов к Работкам. Село это было пожаловано императрицей Елизаветой бывшему своему фавориту Алексею Шубину, сосланному Анной Иоанновной на Камчатку. Но Елизавета его вернула и осыпала всякими милостями.
Шубин был богат. Каин надеялся взять здесь большую добычу. Но, разведав обстановку, понимает, что грабежу должна предшествовать серьезная подготовка. И следующей весной шайка Ваньки Каина по Владимирскому тракту под видом странников приходит в село Избылец. Здесь Каин покупает четыре лодки и добирается водным путем до Работок. Но Шубина нет, он на охоте. Впрочем, разбойники особо не переживают. Они врываются в его усадьбу, выносят все ценное, а управляющего и приказчика берут в заложники. Убедившись, что за шайкой никто не гонится, Каин отпускает заложников на волю.
После этого Ванька грабил суда на Суре, оставил свой след в селах Языково и Барятино.
Ванька-сыщик
Долго не могли изловить эту шайку. Но, набив карманы золотом и драгоценностями, Ванька Каин решил легализоваться. Он явился в Сыскной приказ с челобитной. «Сим о себе доношением приношу, – говорилось в ней, – что я забыл страх Божий и смертный час и впал в немалое прегрешение. Будучи в Москве и прочих городах, мошенничал денно и нощно».
Покаявшись, Ванька Каин приложил к этой бумаге полный список членов своей шайки, в которой насчитывалось больше трех десятков человек, и заявил, что может изловить всех до единого, если ему дадут в распоряжение конвой.
Подумали, поразмыслили в Сыскном приказе и приняли предложение разбойника. Дали ему 14 солдат и подъячего Петра Донского. И в первую же ночь Ванька Каин «переловил» многих. Как своих, так и чужих. В разных источниках называются разные цифры – от 30 до 103 человек.
После этой операции Каина стали официально именовать доносителем. Но Ваньку нагло обманули. Ему не выплатили не только премиальных, но даже не компенсировали личных расходов по розыску и поимке преступников. И Ванька разобиделся. Если раньше прикидывался раскаявшимся, то теперь стал мстить своим обидчикам, обвинять их в мздоимстве. И сам занялся вымогательством и шантажом.
Чтобы обезопасить себя, Каин пишет в Сенат челобитную, где сообщает, что бывшие коллеги по сыску возводят на него разные поклёпы потому, что завидуют. И Сенат поверил. 3 октября 1744 года выходит в свет указ, согласно которому следовало никакие доносы на Каина не принимать!
После этого Ванька стал действовать еще наглее. Он завел себе подручных – Федора Парыгина и Тараса Фёдорова. Однажды эта троица ворвалась в дом зажиточного крестьянина Еремея Иванова, избила его, отобрала деньги и ценные вещи, да еще и похитила племянницу Иванова. За неё пришлось вносить выкуп.
Крестьянин обратился с жалобой в Тайную канцелярию. Ваньку и его сподвижников арестовали. Под пытками Фёдоров и Прыгин признались даже в том, чего не совершали. Их сослали в Сибирь, а Ванька был «нещадно бит плетьми», но его опять отпустили. В знак признательности он сдал своего закадычного друга Камчатку.
Камчатку сослали в Оренбург, а за Ванькой Каином установили негласное наблюдение. И он в очередной раз попался. Стало ясно, что причастен к похищению 15-летней дочери солдата Коломенского полка Федора Зевакина. И Ваньку Каина взяли под стражу. А на дыбе он рассказал обо всех своих похождениях.
Вынесенный Ваньке смертный приговор за заслуги перед Сыскным приказом все же заменили каторгой. А на забайкальских рудниках Ванька якобы начал слагать песни. Нет, что бы ни говорили, а талантливым был он человеком!