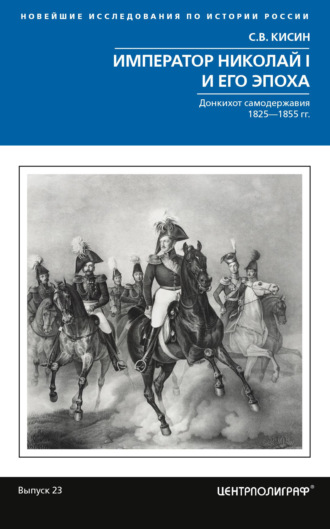
Сергей Кисин
Император Николай I и его эпоха. Донкихот самодержавия
Коронный гетман
Николай был уже отнюдь не мальчишкой – 29 лет, возраст вполне «престольный». Даже учитывая то, что к управлению его никто не готовил, скорее, наоборот. Но в критической ситуации он знал, что делать. Понятно, что он лукавил насчет «никакая сила не заставит», имея за спиной бывших и, возможно, будущих цареубийц.
В Варшаву в тот же день улетел фельдъегерь с письмом великого князя, умоляющего брата лично прибыть в столицу и подтвердить свое отречение (один из посланных был известен в столице как карточный шулер, что вызвало волну анекдотов в свете). Иначе не поверят.
«Дорогой Константин! Предстаю пред моим государем, с присягою, которой я ему обязан и которую уже принес ему, так же, как и все, меня окружающие, в церкви, в тот самый момент, когда обрушилось на нас самое ужасное из всех несчастий. Как состражду я вам! Как несчастны мы все! Бога ради, не покидайте нас и не оставляйте нас одних!
Ваш брат, ваш верный на жизнь и на смерть подданный Николай».
Начал более спокойно взвешивать свои силы. В гвардии можно было рассчитывать только на своих малочисленных друзей – командующего гвардейской кирасирской дивизией (Кавалергардский и Конный полки) генерал-адъютант Александр Бенкендорф, командующий лейб-гвардии Конным полком генерал-адъютант Алексей Орлов, командир лейб-гвардии Гусарского полка и 2-й бригады легкой кавалерии генерал от кавалерии Василий Левашов. Однако гусары стояли в Павловске, егеря – в Новгороде. Но время их подтянуть еще было. Иными словами, почти вся пехота была за Милорадовича (сиречь за Константина), почти вся кавалерия – за Николая. Не будем забывать все же лейб-гвардии Саперного батальона полковника Александра Геруа, лично преданного великому князю. Однако в царстве Польском стояла самая боеспособная армия, преданная именно цесаревичу.
Константин же задумался, также взвешивая баланс сил. Точных данных об этом нет, но можно не сомневаться, что со своей стороны Милорадович и К° отправили ему своих гонцов с уверением, что «путь свободен». Гвардия фактически за шиворот тащила цесаревича на трон предков. Соблазн был велик. Настолько велик, что он вообще отказался принимать гонцов от Николая.
Отметим, курьер о болезни Александра прибыл в Варшаву 19-го, а в Петербург – только 25-го. В этот же день в Варшаве уже узнали о смерти, в столице – лишь через два дня. Времени у цесаревича было вагон. Естественно, к нему тут же заспешили сановники и генералы с неуместными на фоне умирающего царя поздравлениями и пожеланиями. Советник наместника граф Николай Новосильцев (был в свое время в ближнем кругу соратников Александра I, но впоследствии удален) начал уже называть его «ваше величество», чем вызвал взрыв ярости и без того нервного цесаревича. «Что они, мать-перемать (Константин не стеснялся использовать в беседах гвардейские выражения), вербовать, что ли, вздумали в цари!» И тут же показательно расплакался при собравшихся, поставив их в известность о том, что государь скончался: «Наш ангел отлетел, я потерял в нем друга, благодетеля, а Россия – отца своего… Кто нас поведет теперь к победам, где наш вождь? Россия осиротела, Россия пропала!»
Его адъютант, капитан 1-го ранга Павел Колзаков, осмелился заметить в смысле «король умер, да здравствует король», что Россия не может пропасть, пока существует императорская власть. При этом неосторожно назвав Константина «вашим величеством».
Цесаревич окончательно рассвирепел, вновь продемонстрировав, что он сын своего отца и что зря декабристы полагали, что «нравы его исправились». Он чуть было не вытряхнул каперанга из мундира, встряхнув, как тряпичную куклу: «Да замолчите ли вы! Как вы осмелились выговорить эти слова, кто дал вам предрешать дела, до вас не касающиеся? Вы знаете ли, чему вы подвергаетесь? Знаете ли, что за это в Сибирь и в кандалы сажают? Извольте идти сейчас под арест и отдайте вашу шпагу!»
Гостившему же в это время в Варшаве брату Михаилу он поведал, что «моя воля отречься от престола более, нежели когда-либо, непреложна!» И тут же отослал его в столицу подальше от завязывавшегося узла с уверением Николаю и матери в своей решимости отречься.
Мудрил цесаревич, играл свою роль в Варшаве так же, как и Николай свою в Петербурге. Как раз в этот момент он и просчитывал все варианты. Ясно, что полки Литовского корпуса, гвардии и армии, расквартированные в Варшаве, будут за него. Ясно, что Милорадович постарается сделать все, от него зависящее в столице. Но дальше что? Если Николай будет настаивать на манифесте с его отречением, а Константин его дезавуирует, как сам он будет выглядеть в глазах двора? Допустим, переморгает, а далее? Поднимать войска и начинать гражданскую войну? Младший брат тоже не промах и найдет себе сторонников в войсках. Пока Литовский корпус приступит к решительным действиям, самого Константина в Петербурге объявят узурпатором, в боевую готовность будут приведены все вооруженные силы метрополии (против Наполеона действовало полмиллиона штыков и сабель). Да и еще большой вопрос, как поведут себя его сторонники, когда дело дойдет до свалки за трон. Он, конечно, не «маркиз де Пугачев», но взбираться на залитый отеческой кровью престол через труп брата тоже в глазах Европы дело совершенно недопустимое. Да и в самом Петербурге – ведь задушат же, подлецы, как задушили отца!
И вот тут возникает такая интересная ситуация. Подставляться самому цесаревичу в битве за трон глупо и недальновидно. Зато выставить на эту битву кого другого, а потом самому воспользоваться ее плодами – вполне дипломатично. То, что Константин знал о заговоре тайных обществ, это даже не обсуждается. О нем знал и начальник Главного штаба генерал-адъютант барон Иван Дибич, чуть ли не ежедневно докладывавший Александру об инсургентах, и Милорадович, неоднократно намекавший на его существование Николаю. Знал цесаревич и то, что заговорщики планировали усадить на престол именно его самого. Знал и то, что в ходе переворота в их рядах были как минимум двое (Якубович и Каховский), готовые убить самого царя.
Вопрос: а не провоцировал ли сам Константин действия «молодой гвардии», с тем чтобы после убийства Николая сыграть роль Бориса Годунова, вынужденного принять трон под давлением обстоятельств? Не толкал ли он своими действиями заговорщиков к тому, чтобы перейти к решительным акциям, взорвав «мину под престолом» и унеся ее осколками всех врагов Константина?
По крайней мере, его поступки вполне вписываются в эту версию. Как вспоминал глава декабристов князь Трубецкой, который, собственно, и ориентировался на колебания цесаревича: «На письма, отправленные с Опочининым (полковник лейб-гвардии Конного полка, посланный Николаем с письмом к Константину. – Авт.), Константин Павлович не сделал никакого ответа, который бы мог послужить доказательством для народа, что он добровольно отказывается от престола и уступает его ближайшему по себе наследнику. Говорили, что ответ, которым он предоставлял престол на волю желающего, был написан в самых неприличных выражениях, что и несколько подтверждается тем, что он не был напечатан при манифесте, которым Николай объявлял о своем вступлении на престол».
При этом как-то странно подсуетился министр финансов Егор Канкрин, начав чеканить монету с профилем цесаревича и надписью «Император Константин I». До всякой коронации. Монеты потом стали одной из главных нумизматических редкостей.
Для начала Константин привел к присяге Николаю «варшавские» полки, которые умоляли его взять власть в свои руки. Хороший ход – знал ведь, что в Петербурге присягнули именно ему, так что по-любому предстоит переприсяга, а это уже повод сконцентрировать большие вооруженные силы в одних руках и в одном месте. Затем он категорически отказался ехать в столицу подтверждать свое отречение. Казалось бы, а что тут такого? Понятно, что образовался вакуум власти, ситуация напряженная, а появившись в Петербурге, он тут же бы снял все вопросы и разрубил все узлы своей доброй волей. Ни за что. К чему бы это? Сам боялся брата и верных ему войск? Или хитрил ученик республиканца Лагарпа, подстегивая заговорщиков к выступлению при переприсяге?
Понятно ведь, что, выступив «при Константине», они взбунтовались бы против законно избранного императора и стали бы государственными преступниками. Выступив же «за Константина», они были бы всего лишь сторонниками одного из претендентов на престол.
Вольно или невольно, но заговорщики повели себя именно так, как можно было бы вести, будь они в сговоре с цесаревичем. Братья Бестужевы ходили по казармам и нагло врали солдатам о том, что «мы присягнули цесаревичу, а в Сенате было завещание покойного государя, в котором бог знает что было написано, и нам его не объявляли». Дошло до того, что стали убеждать служивых, что Константин уже в оковах и надеется только на верных ему гвардейцев.
Рылеев предлагал распустить слух о якобы хранящемся в Сенате духовном завещании Александра, в котором срок службы нижним чинам уменьшался до 10 лет. Неграмотные крестьяне понятия не имели о хитросплетениях политики и конституциях, но о сроке службы понимали хорошо и сочувственно кивали, мотая на гвардейский ус.
На квартире у Кондратия Рылеева беседы следовали в том духе, что, как только будет назначена переприсяга, немедленно поднимать восстание, выдвигая в будущее правительство либеральных и популярных личностей – Михаила Сперанского, адмирала Николая Мордвинова (глава Вольного экономического общества), генерала Алексея Ермолова (командующий Отдельным Кавказским корпусом).
Впрочем, и среди них не было единства – на трон предлагали попеременно вдову Александра I Елизавету Алексеевну и семилетнего Александра Николаевича (будущего Александра II).
Милорадович в беседе с принцем Евгением Вюртембергским делано закатывал глаза и «признавался»: «Боюсь за успех дела: гвардия очень привержена Константину». Тот возмутился, о чем, мол, речь, тот же отрекся от престола? На что генерал, как девица, пожеманничал: «Совершенно верно, ей бы не следовало тут вмешиваться, но она испокон веку привыкла к тому и сроднилась с такими понятиями». То есть генерал-губернатор заранее щупал почву, мало сомневаясь в том, что без гвардии тут не обойдется.
Близкий к нему генерал Главного штаба Алексей Потапов, не стесняясь, писал Константину: «Государь! Я был свидетелем, с каким усердием все сословия – воины и граждане – исполнили свой священный долг. Ручаюсь жизнию, сколь ни болезненна потеря покойного императора, но нет ни единого из ваших подданных, который бы по внутреннему своему убеждению не радовался искренне, что провидение вверило судьбу России вашему величеству… Когда, возвратившись сюда, курьеры, коих донесения сохраняются в тайне, не оправдали нашего ожидания, то недоумения о причинах, по коим изволите медлить приездом вашим в здешнюю столицу, стали поселять во всех невольное опасение, которое с каждым днем возрастает и производит во всех классах народа различные суждения… Таковое смущение умов в столице, без сомнения, скоро перельется и в другие места империи, токи увеличатся, и отчаяние может даже возродить неблагонамеренных, более или менее для общей тишины опасных».
Карты раскрывались. Ситуация обострялась с каждым днем.
Тем временем примчавшийся из Варшавы Михаил первым делом набросился на брата: «Зачем ты все это делал, когда тебе известны были акты покойного государя и отречение цесаревича? Что теперь будет при второй присяге в отмену прежней и как бог поможет все это кончить?» Николай только горько усмехнулся, заметив младшему, что привезенные им письма от Константина не оказали на столичных генералов НИКАКОГО воздействия. Здесь играли в собственные игры. Как вспоминал сам Михаил, употребляя себя в записках в третьем лице: «В Петербурге покамест все оставалось по-прежнему: ибо привезенные Михаилом Павловичем письма не признавались достаточным основанием к перемене принятой системы действия. И императрица-матерь, и великий князь Николай Павлович считали необходимым дождаться сперва отзыва цесаревича на известие о принесенной ему присяге и сверх того, по получении упомянутых писем, написали ему вновь, прося, если воля его об отречении неизменна, огласить оную для предупреждения всяких беспокойств актом более торжественным, чем-нибудь вроде манифеста. На ответ нельзя было рассчитывать прежде довольно продолжительного времени».
Что же касается писем Константина, то прочитавшая их Мария Федоровна обратилась к Николаю со словами: «Ну, Николай, преклонитесь пред вашим братом: он заслуживает почтения и высок в своем неизменном решении предоставить вам трон».
Сам Николай потом писал: «Признаюсь, мне слова сии было тяжело слушать, и я в том винюсь; но я себя спрашивал, кто большую приносит из нас двух жертву: тот ли, который отвергал наследство отцовское под предлогом своей неспособности и который, раз на сие решившись, повторял только свою неизменную волю и остался в том положении, которое сам себе создал сходно всем своим желаниям, – или тот, который, вовсе не готовившийся на звание, на которое по порядку природы не имел никакого права, которому воля братняя была всегда тайной, и который неожиданно, в самое тяжелое время и в ужасных обстоятельствах должен был жертвовать всем, что ему было дорого, дабы покориться воле другого? Участь страшная, и смею думать и ныне, после 10 лет, что жертва моя была в моральном, в справедливом смысле гораздо тягче».
Письма оставались всего лишь письмами, юридически ничего не значащими в разрешении государственного кризиса. Необходимы были более весомые доказательства отречения. Константин со своей странной позицией по-прежнему оставался ферзем на шахматной доске большой политики империи. От любого его слова в Варшаве многое, если не все, зависело в раскладе сил в Петербурге.
Поскольку надеяться было не на кого, 5 декабря Михаила вновь собрали в путь в Варшаву с очередным призывом к Константину приехать. При этом «мамаша» его напутствовала: «Когда ты увидишь Константина, скажи и повтори ему, что если так действовали, то это потому, что иначе должна была бы пролиться кровь». Николай пророчески добавил: «Она еще не пролита, но пролита будет». Мало похоже на обмен любезностями в рамках любящей семьи, мрачнее не придумаешь.
Расклад сил
Константин приехать отказался. Он рисковал в любом случае – либо его могли «задушить» сторонники брата, либо заговорщики, если возобладают не проконстантиновские планы Трубецкого, а стратегия Пестеля. Оживленный обмен фельдъегерями закончился вроде как его «окончательным» отречением в пользу Николая. Он прислал несколько «официальных» писем: в адрес Марии Федоровны, в котором напоминал, что она давно о его желании знала; к председателю Госсовета князю Петру Лопухину, упрекающее в несоблюдении его «воли»; к Николаю, с поименованием брата «величеством» и пожеланием оставить его при прежде занимаемом им месте и звании. Однако ожидаемого манифеста не прислал.
«Вскрыв письмо брата, – записал Николай, – удостоверился я с первых строк, что участь моя решена, – но что единому Богу известно, как воля Константина Павловича исполнится, ибо вопреки всем нашим убеждениям решительно отказывал в новом акте, упираясь на то, что, не признавая себя императором, отвергая присягу, ему данную, как такую, которая неправильно ему принесена была, не считает себя вправе и не хочет другого изречения непреклонной своей воли, как обнародование духовной императора Александра и приложенного к оному акта отречения своего от престола. Я предчувствовал, что, повинуясь воле братней, иду на гибель, но нельзя было иначе, и долг повелевал сообразить единственно, как исполнить сие с меньшею опасностью недоразумений и ложных наветов».
Однако полагали, что и этого уже довольно. Формальных поводов к дальнейшим проволочкам у правительства теперь не было – требовалась переприсяга новому самодержцу.
Как заметил Николай Ростовцеву: «Мой друг, можешь ли ты сомневаться, чтобы я любил Россию менее себя? Но престол празден, брат мой отрекается, я единственный законный наследник, Россия без царя быть не может. Что же велит мне делать Россия?» Когда его сыну, малолетнему Александру (будущему Александру II), флигель-адъютант Николая Александр Кавелин сообщил, что он теперь цесаревич, мальчик расплакался навзрыд.
Об окончательном отказе Константина еще 6 декабря стало известно в среде заговорщиков, которые традиционно, на квартире больного Рылеева провели совещание, на котором окончательно решились на выступление в день переприсяги – 14 декабря. Как за всех сделал вывод отставной гвардейский артиллерист Иван Пущин: «Если ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов».
Было несколько вариантов: либо вывести отказавшиеся присягать Николаю части к Пулковским высотам, а Батенкову начать переговоры с новым самодержцем о воцарении Константина, либо захватить Зимний дворец с императорской семьей, что значительно облегчит те же переговоры. В случае неудачи планировали отступить к новгородским военным поселениям, чей мятежный дух был общеизвестен и где рассчитывали набрать сторонников.
Как писал Николаю уже после ареста сам Рылеев: «Когда достоверно узнали, что государь цесаревич отказался от престола, положено было не присягать вашему императорскому величеству, офицерам подать пример солдатам и, если они увлекутся, то каждому, кто сколько может, привести их на Сенатскую площадь, где князь Трубецкой должен был принять начальство и действовать смотря по обстоятельствам. Причем, однако ж, решено было стрельбы не начинать, а выждать выстрелов с противной стороны. Во всяком случае, не предполагали, чтобы солдаты стали стрелять против солдат, и поэтому надеялись более. Что дело кончится без кровопролития, что другие полки пристанут к нам и что мы в состоянии будем посредством Сената предложить вашему величеству или государю цесаревичу о собрании Великого Собора, на который должны были съехаться выборные из каждой губернии, с каждого сословия по два. Они должны были решить, кому царствовать и на каких условиях. Приговору Великого Собора положено было беспрекословно повиноваться, стараясь только, чтобы народным Уставом был введен представительный образ правления, свобода книгопечатания, открытое судопроизводство и личная безопасность. Проект конституции, составленный Муравьевым, должно было представить Народному Собору как проект».
Лукавил поэт. Он лично беседовал с Каховским и знал, что тот с маниакальным упорством желал «пожертвовать собой», но не абы из-за чего, а именно цареубийства ради. Бредивший идеей «нового Брута», он мечтал стать тираноубийцей. Как раз Рылеев с Бестужевым и уговаривали его «пожертвовать собою во имя идеи». Так что о «бескровности» заговорщики вовсе не думали.
Проблема была в том, что у заговорщиков не хватало «густых эполетов». Младшего офицерства было хоть отбавляй, но вот обер-офицеров и генералов – по пальцам перечесть. К тому же командир лейб-гвардии Семеновского полка генерал Шипов отказался участвовать в восстании, честно предупредив, что дал слово Николаю присягнуть ему вместе со своим полком.
Из негустого списка оберов «диктатором» выбрали полковника Сергея Трубецкого, имевшего репутацию не только ветерана тайных обществ, но и отчаянного храбреца (при Бородино он 14 часов простоял под огнем французов с поразившим всех спокойствием, «как будто играл в шахматы»). Батенков закусил губу – он сам мечтал стать диктатором или как минимум войти в состав Временного правительства вместе с Ермоловым, Сперанским и Мордвиновым. Не без того, конечно, чтобы потом попросить этих нужных на первом этапе господ освободить кресла, – что-то большевистское в нем проскальзывало. Единства в рядах декабристов не было никогда, ссоры, свары и даже дуэли преследовали романтиков бунта.
По мнению диктатора, реально заговорщики могли рассчитывать на Измайловский, Егерский, лейб-гренадерский, Финляндский, Московский полки, Морской экипаж.
Колебания отмечались в Преображенском полку, у кавалергардов.
Следует отметить, что в данном случае чистая математика неуместна – речь идет лишь о части младшего офицерства полков (оберов почти нигде не было) и части рот первых батальонов этих полков, ибо вторые батальоны стояли за городом. То есть нельзя просто плюсовать количество штыков и сабель – предполагалось, что нижние чины должны бунтовать по приказу своих офицеров. Тем вроде как все равно – кто б ни поп, тот и батька. Должны – не значит обязаны, тут уж все зависело от авторитета самих заговорщиков и противодействия старших офицеров. Поэтому заранее посчитать, на сколько именно человек можно рассчитывать в этой ситуации, было бессмысленно.
Выйти на Сенатскую площадь и заставить сенаторов не присягать Николаю, тем самым склонив своей решимостью остальные гвардейские полки на свою сторону, – на это был основной расчет. Как именно, какими путями, с какими силами – никто не знал, что делать с этим дальше – тем более. Предполагали ввязаться в бой, а там будь что будет. Промедление смерти подобно. Единства в формах и методах восстания не было.
Иными словами, вранье перед солдатами, блеф перед сенаторами, поза перед гвардией, штыки перед Николаем, безвыходное положение перед Константином – бери власть не от Милорадовича, а от заговорщиков и давай конституцию.
А для пущей убедительности были заготовлены Якубович с Каховским, которых в нужный момент должны были выпустить в качестве «тираноубийц». Никто ведь не мог предположить, что один из них только болтал о своей решимости, а второй настолько «был очарован» Николаем, что не только стрелять в него, а на последующих допросах как на духу все выкладывал государю о заговорщиках.
Были и более оригинальные мысли у заговорщиков. Рылеев предлагал зажечь Петербург в случае отступления, «чтобы и праха немецкого не осталось». Каховский утверждал, что «с этими филантропами ничего не сделаешь; тут просто надобно резать, да и только».
Интересную историю рассказывал о нем его приятель, известный публицист Николай Греч: «Он был в каком-то пансионе в Москве, в 1812 году, когда вступили туда французы. Пансион разбежался, и Каховский остался где-то на квартире. В этом доме поселились французские офицеры и с мальчиком ходили на добычу. Однажды приобрели они несколько склянок разного варенья. Нужно было откупорить. За это взялся Каховский, но как-то неосторожно засунул палец в горлышко склянки и не мог его вытащить. Французы смеялись и спрашивали, как он освободит свой палец. „А вот как!“ – сказал мальчик и, размахнувшись, разбил склянку об голову одного француза. Его поколотили за эту дерзость и выгнали».
Еще один интересный факт. Подпоручик Яков Ростовцев, признавшийся великому князю в существовании заговора и будущего восстания, явился к Рылееву и сообщил ему о своем предательстве. Именно так он представлял себе понятие о чести. Николай Бестужев на это отозвался: «Ростовцев хочет ставить свечку и Богу, и сатане. Николаю он открывает заговор, перед нами умывает руки признанием…»
Со своей стороны Николай тоже не сидел без дела. 6 декабря к нему прибыл от графа Дибича полковник лейб-гвардии Измайловского полка барон Александр Фредерикс. В письме Дибич извещал «о существующем и только что открытом пространном заговоре, которого отрасли распространялись чрез всю империю, от Петербурга на Москву и до второй армии в Бессарабии». В письме упоминались конкретные фамилии – Муравьев, Бестужев, Рылеев и пр. При этом Дибич взял на себя смелость и приказал арестовать командира Вятского полка полковника Пестеля (арестован в Тульчине накануне восстания в Петербурге).
Вслед за этим при дворе появился сам Аракчеев и, несмотря на сложные отношения с новым императором и весьма вероятную свою отставку, поставил его в известность о доносах Александру о заговорщиках.
Секрет Полишинеля – о многочисленных обществах и заговорах только ленивый не судачил в Петербурге, а списки инсургентов у Милорадовича хранились на видном месте (у Константина они тоже были от Дибича, который не знал об отречении, но цесаревич скромно о них умалчивал).
В своих записках Николай счел должным разволноваться: «Тогда только почувствовал я в полной мере всю тягость своей участи и с ужасом вспомнил, в каком находился положении. Должно было действовать, не теряя ни минуты, с полною властью, с опытностью, с решимостью – я не имел ни власти, ни права на оную; мог только действовать чрез других, из одного доверия ко мне обращавшихся, без уверенности, что совету моему последуют; и притом чувствовал, что тайну подобной важности должно было наитщательнейше скрывать от всех, даже от матушки, дабы ее не испугать, или преждевременно заговорщикам не открыть, что замыслы их уже не скрыты от правительства. К кому мне было обратиться – одному, совершенно одному без совета!»
Понятно, что самодержец сгущал краски. Все он прекрасно знал и без Дибича с Аракчеевым. Другое дело, что реальных сил у него действительно не было, а бороться с заговорщиками должен был именно тот, который никак не хотел самого Николая подпускать к трону, – граф Милорадович, как генерал-губернатор столицы, хотя тот показал графу письмо Дибича.
То есть версия о том, что объективно декабристы действовали в пользу Константина с Милорадовичем (против Николая) с их ведома, или как минимум при их странном попустительстве, еще раз обретает реальные формы. Тем более учитывая тот факт, что Милорадович пальцем не шевельнул в следующие четыре дня до восстания на Сенатской площади, чтобы его предотвратить. Ни одного ареста.
Николай замечает: «Граф Милорадович должен был верить столь ясным уликам в существовании заговора и в вероятном участии и других лиц, хотя об них не упоминалось; он обещал обратить все внимание полиции, но все осталось тщетным и в прежней беспечности». Это уж вряд ли – ни о какой беспечности речи не шло. Милорадович знал, что делал, у него ведь «в кармане 60 тысяч штыков». Сильно ошибался в расчетах. А вероятнее всего, просто сдали нервы, и после отказа Константина он вообще опустил руки. «Я на него надеялся, а он губит Россию!» – сказал генерал. Его надежды рушились, но был еще шанс на выступление заговорщиков, которые смогут заставить цесаревича пересмотреть свое решение.
Ростовцев предсказал Николаю, что «Государственный совет, Сенат и, может быть, гвардия будут за вас; военные поселения и отдельный Кавказский корпус решительно будут против (об двух армиях ничего не умею сказать)».
Что мог противопоставить заговорщикам? Конницу? Саперов? Часть гвардии? Как они себя поведут, когда увидят своих товарищей с примкнутыми штыками на улицах Петербурга? Кинутся их поддерживать или защищать малоизвестного им, даже еще не коронованного самодержца?
Кроме того, его сильно смущали разговоры о том, что в будущее правительство прочат популярнейшего в империи генерала Ермолова. Его боевой Кавказский корпус – это уже серьезно, тут уже не Пугачев и не княжна Тараканова.
А пока Николай готовил собственный манифест о своем вступлении на престол. Готовил более чем оригинально. Первоначальный вариант писал историк Николай Карамзин, а дорабатывал его злейший враг Михаил Сперанский, который и угодил в ссылку на основании карамзинской «Записки о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях». В ней историк требовал «больше мудрости охранительной, нежели творческой», что и сподвигло Александра отправить реформатора Сперанского в отставку. Однако в нынешней критической ситуации Николаю было не до сантиментов, и он впрягал в государственную телегу одновременно коня и трепетную лань.
12 декабря он написал в письме находившемуся еще в Таганроге генерал-адъютанту Петру Волконскому: «Воля Божия и приговор братний надо мной совершается!
14-го числа я буду государь или мертв. Что во мне происходит, описать нельзя; вы, вероятно, надо мной сжалитесь – да, мы все несчастные – но нет несчастливее меня! Да будет воля Божия!»
В письме к Дибичу записал: «Послезавтра поутру я – или государь, или без дыхания. Я жертвую собою для брата, счастлив, если как подданный исполню волю его. Но что будет в России? Что будет в армии? Я вам послезавтра, если жив буду, пришлю… как все сошло; вы также не оставите меня уведомить о всем, что у вас вокруг вас происходить будет, особливо у Ермолова. К нему надо будет под каким-нибудь предлогом и от вас кого выслать… я, виноват, ему менее всего верю».
Манифест князя Трубецкого
В Манифесте Сената объявляется:
1. Уничтожение бывшего правления.
2. Учреждение временного, до установления постоянного, выборными.
3. Свободное тиснение, и потому уничтожение цензуры.
4. Свободное отправление богослужения всем верам.
5. Уничтожение права собственности, распространяющейся на людей.
6. Равенство всех сословий перед законом, и потому уничтожение военных судов и всякого рода судных комиссий, из коих все дела судные поступают в ведомства ближайших судов гражданских.
7. Объявление права всякому гражданину заниматься чем он хочет, и потому дворянин, купец, мещанин, крестьянин все равно имеют право вступать в воинскую и гражданскую службу и в духовное звание, торговать оптом и в розницу, платя установленные повинности для торгов. Приобретать всякого рода собственность, как то: земли, дома в деревнях и городах; заключать всякого рода условия между собою, тягаться друг с другом пред судом.
8. Сложение подушных податей и недоимок по оным.
9. Уничтожение монополий, как то: на соль, на продажу горячего вина и проч., и потому учреждение свободного винокурения и добывания соли, с уплатой за промышленность с количества добывания соли и водки.
10. Уничтожение рекрутства и военных поселений.
11. Убавление срока службы военной для нижних чинов, и определение оного последует по уравнении воинской повинности между всеми сословиями.
12. Отставка всех без изъятия нижних чинов, прослуживших 15 лет.
13. Учреждение волостных, уездных, губернских и областных правлений и порядка выборов членов сих правлений, кои должны заменить всех чиновников, доселе от гражданского правительства назначенных.
14. Гласность судов.
15. Введение присяжных в суды уголовные и гражданские.
Учреждает правление из 2-х или 3-х лиц, которому подчиняет все части высшего управления, то есть все министерства, Совет, Комитет министров, армия, флот. Словом, всю верховную, исполнительную власть, но отнюдь не законодательную и не судную. Для сей последней остается министерство, подчиненное временному правлению, но для суждения дел, не решенных в нижних инстанциях, остается департамент Сената уголовный и учреждается гражданский, кои решают окончательно, и члены коих останутся до учреждения постоянного правления.





