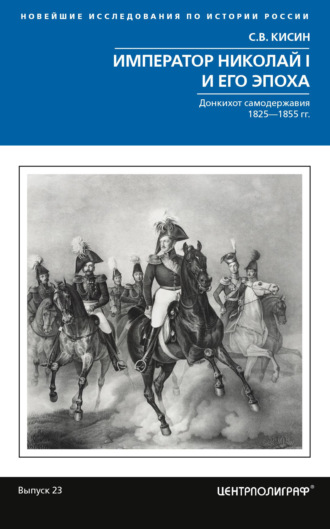
Сергей Кисин
Император Николай I и его эпоха. Донкихот самодержавия
Котел янычаров
Известно, что турецкие янычары в знак недовольства политикой властей и мятежа переворачивали котлы кверху днищем. Столетиями именно янычары определяли, какому султану сидеть у Высокого Порога, и завоевать их доверие – вернейший путь к трону.
В России роль янычаров традиционно занимала гвардия, настроение которой становилось индикатором всех политических баталий в империи. Именно гвардия, «перевернув котлы», штыками проложила дорогу к трону Екатеринам I и II, Анне Иоанновне, Елизавете Петровне, Александру I, попутно отправив на тот свет двух законных самодержцев. Не стоит обольщаться – в России особа государя никогда не была «священной и неприкосновенной».
С 1725 по 1801 год в России произошло, по одним подсчетам, пять, по другим – восемь «дворцовых революций» с непременным участием гвардии. В ней служили отпрыски ведущих аристократических семей, отражавших надежды и чаяния верхушки российского нобилитета. Ее баловали и осыпали милостями, чины здесь признавались выше армейских, а тяготы службы были не в пример легче, чем в «территориальных» полках. Но как только монарх утрачивал влияние на гвардию, трон под ним сразу же начинал шататься, и свержение становилось лишь вопросом времени.
Поэтому во главе квартировававших в столице гвардейских полков всегда ставились только испытанные и близкие к самодержцу люди. Их шефами делали членов императорской фамилии, которые стремились заручиться поддержкой полковых офицеров, участвуя в шумных ассамблеях и разделяя с ними тяготы военной службы.
Именно в гвардейской среде в царствование Александра возникли первые «неформальные» общества, созданные по типу масонских лож (император их обожал, его царствование считается «золотым веком» русского масонства). Полковник Преображенского полка князь Сергей Трубецкой писал, что одно из первых подобных обществ возникло 9 февраля 1816 года (в его составе были будущие декабристы Александр и Никита Муравьевы, Сергей Шипов, Павел Пестель, князья Иван Долгоруков и Павел Лопухин, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Федор Глинка и др.) и ставило перед собою весьма далекие от бунта цели: «Строгое исполнение обязанностей по службе; честное, благородное и безукоризненное поведение в частной жизни; подкрепление словом всех мер и предположений государя к общему благу; разглашение похвальных дел и осуждение злоупотреблений лиц по их должностям». Ну прямо пионерская организация с главной целью «помощи царю». Ничего крамольного. Именно из него потом сформировался Союз благоденствия. Неудивительно, что все последующие годы на многочисленные тайные общества Александр смотрел сквозь пальцы, полагая, что это всего лишь «игра в масонов».
Да, собственно, и сами «масоны» поначалу не числили себя в «якобинцах». Все получили блестящее воспитание и образование: Трубецкого учили на дому французы-гувернеры, у поручика лейб-гвардии Финлядского полка князя Евгения Оболенского таковых было 18 воспитателей, братья Муравьевы-Апостолы учились в Париже, в пансионе Гикса, поручик лейб-гренадер Николай Панов – в петербургском пансионе Жакино, князь Валериан Голицын – в иезуитском пансионе и пансионе Жонсона, и т. д. Подавляющее большинство будущих декабристов учились в кадетских, сухопутных, морских, пажеских корпусах, считавшихся рассадниками либеральных образования и настроения.
Многие из них прошли Наполеоновские войны, зарекомендовав себя отчаянными храбрецами и истинными патриотами.
Однако со временем иллюзии относительно теряющего интерес с власти и своей стране императора начали исчезать. Крестьян так и не освободили, одарив их вместо этого «военными поселениями». Срок службы рекрутов (ожидалось, что его сократят с 25 до 8 лет) так и не был сокращен. Реформатор Сперанский отправлен в ссылку в свое имение в Новгородской губернии.
В 1819 году был разрешен ввоз в страну иностранных товаров, что тут же убило собственного неконкурентоспособного производителя, обанкротив первую нарождающуюся буржуазию. Попробовали вернуть монополию на питейные заведения в государевы руки, но лишь только расплодили кабаки и споили мещан. Начали вроде как взимать недоимки, но лишь обозлили бравшихся «в опеку» помещиков и разорили казенных крестьян, у которых описывали последний скот и дома.
Сенатор Павел Дивов писал: «Разрушено все, что было хорошего и прекрасного, и заменено пагубными новшествами, которые зачастую оказываются чересчур сложными и совершенно неудобоисполнимыми».
Это озлобило не только низы, но и верхи. Высшее дворянство также было недовольно как засильем иностранцев у власти, так и нежеланием правительства хоть что-то менять к лучшему после тех тягот и лишений, которые это дворянство вынесло, сложив на алтарь Отечества массу самоотверженных голов своего сословия. Однако дворянство по-прежнему не подпускали к власти, ограничивая ее теми же десятком-другим олигархов.
Наиболее активные представители этого дворянства в гвардии по привычке предпочитали действие словам. Нужен был «котел янычаров».
К примеру, Вильгельм Кюхельбекер на следствии утверждал, что главной причиной, заставившей его принять участие в тайном обществе, была скорбь его об обнаружившейся в народе порче нравов как следствие угнетения. «Взирая на блистательные качества, которыми Бог одарил русский народ, единственный на свете по славе и могуществу, по сильному и мощному языку, которому нет подобного в Европе, по радушию, мягкосердечию, я скорбел душой, что все это задавлено, вянет и, быть может, скоро падет, не принесши никакого плода в мире».
Как писал по этому поводу историк Василий Ключевский, «это важная перемена, совершившаяся в том поколении, которое сменило екатерининских вольнодумцев; веселая космополитическая сантиментальность отцов превратилась теперь в детях в патриотическую скорбь. Отцы были русскими, которым страстно хотелось стать французами; сыновья были по воспитанию французы, которым страстно хотелось стать русскими». Дети двух-трех «непоротых поколений» желали завоевать для себя место под державным солнцем.
Вечевым колоколом для Александра в октябре 1820 года прогудела так называемая «Семеновская история», когда взбунтовался один из лучших гвардейских полков русской армии – любимый Петром Великим лейб-гвардии Семеновский полк. Возмутившись притеснениями со стороны ставленника Аракчеева полковника Григория Шварца, нижние чины роты его величества отказались идти в караул и организовали стихийный митинг на плацу. Когда всю бунтующую роту в полном составе отвели в Петропавловскую крепость, возмутился уже весь полк, потребовавший либо освобождения товарищей, либо ареста всех остальных. Генерал-губернатор Михаил Милорадович (император в это время был на конгрессе в австрийском Троппау) предпочел от греха подальше украсить петропавловские казематы всеми семеновцами. Скандал вышел первоклассный, похлеще истории с Константином – краса и гордость империи, спасители самого Петра, яко тати, рассажены в кутузку.
Александру бы сделать правильные выводы, задуматься, что в гвардии что-то не в порядке, что-то менять надо срочно, ибо, как известно, на штыках можно прийти к власти, но на них трудно усидеть. Император сделал наоборот – еще туже законтрил гайки. Полк был расформирован, офицеры во главе с самим Шварцем и нижние чины преданы суду.
Гвардия отозвалась на это распадом благонамеренного Союза благоденствия и основанием на его руинах радикальных Северного и Южного обществ, считавших себя радетелями за страдания народа.
Столичные «северяне» приняли для себя как руководство к действию проект «Конституции» Никиты Муравьева. Ее автор 16-летним пацаном убежал из дома защищать родину от Наполеона, прошел всю войну, участвовал в Битве народов под Лейпцигом в 1813 году, дослужился до офицера Генерального штаба. Муравьев предлагал ввести в России конституционную монархию, что позволит создать представительные органы в виде двухпалатного Народного вече, отменить крепостное право, наделив крестьян землей. Правда, гвардейские офицеры были настолько «страшно далеки от народа», что собирались наделить мужиков из расчета по две десятины на душу, хотя для прокорма крестьянской семье необходимо было как минимум по четыре десятины (в свое время Павел I собирался наделять их по 15 десятин).
С ними категорически был не согласен южный «ястреб» полковник Вятского полка Павел Пестель. Герой Отечественной войны, награжденный золотой шпагой за Бородино, он из масонов перекочевал в радикалы, составив собственную программу действий, именуемую «Русской Правдой». По ней в России предлагалось ввести республиканское правление во главе с Верховным собором, освободить крестьян, но без земли, ибо те не имеют ни капитала, ни просвещения для ее правильной обработки – оставить кормилицу надлежало в общинной собственности и половину в собственности помещиков. Однако делать это полковник намеревался не глупым «конституцованием», а решительным ударом. Пестель прекрасно помнил наставления старого заговорщика, графа Петра Палена (убийца Павла). Тот ему как-то сказал: «Слушайте, молодой человек! Если вы хотите что-нибудь сделать путем тайного общества, то это глупость. Потому что если вас двенадцать, то двенадцатый неизменно будет предателем! У меня есть опыт, и я знаю свет и людей». Поэтому Пестель предлагал не разводить конституционные слюни, а решать вопрос кардинально – ни много ни мало физически истребить всю царскую семью, без исключения. Во благо Отечества, само собой.
«Северные» были в шоке от такого левачества и поспешили откреститься от Пестеля с его душегубской программой. Кондратий Рылеев потом вспоминал: «Я виделся с Пестелем один раз… Заметив в нем хитрого честолюбца, я уже более не хотел с ним видеться… Пестель – человек опасный для России и для видов общества».
Однако на юге, в Киеве, он приобрел себе массу сторонников. Особенно среди поляков, которым он намекнул на возможность отделения от России. Хотя в тайных обществах, напротив, полагали, что поляки, как братские славяне, сами должны желать воссоединения с Большим Братом. Наивные романтики.
Хотя далеко не все. Скажем, штабс-капитан лейб-гвардии драгунского полка Александр Бестужев (будущий прекрасный писатель под псевдонимом Марлинский) честно потом заявлял на следствии о своем желании поставить императором Константина: «Я с малолетства люблю великого князя Константина Павловича. Служив в его полку и надеялся у него выйти, что называется, в люди… одним словом, я надеялся при нем выбиться на путь, который труден бы мне был без знатной породы и богатства при другом государе». То есть парень банально делал себе карьеру посредством заговора.
Или капитан Нижегородского драгунского полка Александр Якубович, известный дуэлянт и буян, по выражению Николая I, «изверг во всех смыслах слова», выгнанный из лейб-гвардии Уланского полка за поединки на Кавказ, участвовавший там в многочисленных стычках с горцами и получивший контузию головы. Позер и фигляр, прибыл в столицу, распуская о себе слухи как о «решительном человеке», готовом на цареубийство из-за «нанесенной ему обиды» Александром I. Естественно, что молодежь восторженно принимала «кавказского героя», видя в нем записного предводителя.
В нужный момент вся его «решительность» испарилась, сменившись на открытый саботаж восстания, и декабристы вполне серьезно подозревали его в предательстве.
В любом случае и «северные», и «южные» полагали, что миром решить ничего не получится. В любом случае реализация их планов требовала решительных действий «янычаров» – выступления одного или нескольких гвардейских полков. То есть вооруженного мятежа. Как это и положено было делать последние сто лет.
Причем о деятельности инсургентов докладывали императору. Сначала проворовавшийся квартирмейстер Вятского полка капитан Аркадий Майборода, затем вольноопределяющийся унтер-офицер Нежинского конно-егерского полка Иван Шервуд, наконец, подпоручик лейб-гвардии Егерского полка Яков Ростовцев спешили с донесениями к государю о деятельности заговорщиков. Но тот игнорировал – ему уже было все равно. Вроде бы даже он со словами «Не мне их судить» бросил в огонь поданный ему список с фамилиями заговорщиков. Фатализм Александра достиг своего апогея.
Осколки мины
В ноябре 1825 года уставший от жизни император путешествовал по югу России и в Крыму подхватил тиф. Совершенно разбитым его привезли в Таганрог, где Александр почувствовал себя еще хуже. 25 ноября в Петербург прибыл валящийся от усталости гонец с известием о том, что государь умирает (тот уже шесть дней как скончался). Другой забрызганный грязью фельдъегерь в это время въезжал в Варшаву к Константину. Еще через два дня новый гонец прискакал со скорбным известием.
В столице началась настоящая кутерьма, смерти всего лишь 48-летнего далеко не старого царя никто не ожидал. Тем более никто не ожидал, что с его смертью рванет заложенная Александром под престол мина в виде манифеста об отречении Константина. Двор строил комбинации, исходя исключительно из условий будущего царствования Константина I, уже мысленно распределяя портфели и заключая союзы, против кого «дружить».
Равновесие власти зависело лишь от нескольких человек, причем сам Николай Павлович в этот момент был далеко не ключевой фигурой в императорской колоде карт. Вперед выдвигались более влиятельные силы: столичный генерал-губернатор, граф Михаил Милорадович, командующий Гвардейским корпусом генерал от кавалерии Александр Воинов, командующий пехотой Гвардейского корпуса генерал-лейтенант Карл Бистром, цесаревич Константин, заговорщики…
О дальнейшем во многом можно только догадываться. Особо интересна позиция Милорадовича. Боевой генерал, похоже, решил сыграть в «делателя королей», чтобы корону новый император получил именно из его рук. Причем его устраивал в данной ситуации именно Константин, с которым они в свое время служили, последние 10 лет живущий в Варшаве и не имевший опоры в Петербурге. Этой опорой как раз таки и собирался стать сам граф, выполняя при нем роль Аракчеева при покойном Александре. Возможно, кратковременный фаворитизм при Екатерине сыграл свою роль. При Николае у Милорадовича шансов не было, максимум – генерал-губернатор. Как он очень мудро заметил, «у кого 60 тысяч штыков в кармане, тот может смело говорить». В николаевском кармане не было практически ничего – в гвардии его не любили, а обожавшие его саперы за малочисленностью были не в счет.
Интересно, что нелюбовь к нему гвардии главным образом объяснялась «скупостью и злопамятностью» великого князя, пристрастием «к фрунту». Под «скупостью» следует понимать то, что Николай, который практически никогда не употреблял спиртного, не участвовал в шумных традиционных оргиях и не разделял алкогольные буйства своих подчиненных. К тому же личного дохода он не имел (и отец, и старший брат не баловали Николая и Михаила материальными поблажками), из собственного кармана вынимать деревни и золотые табакерки он был просто не в состоянии. «Злопамятство» же его следует рассматривать лишь в русле общей требовательности к дисциплине тех лет, которую так настойчиво желал восстановить Николай. Причем отнюдь не палочными методами – современники подчеркивают, что как раз он частенько освобождал от наказания, а не усугублял его. А уж пристрастие к «фрунту» более следует приписать не ему, а почившему в бозе самодержцу.
Однако в гвардии смотрели иначе. В Польше у Константина для армии жизнь была куда привольнее – солдаты служили не 25, а 8 лет, кормили их лучше, жалованье было выше. Офицеры чувствовали себя гораздо вольготнее из-за меньшего количества учений, чем в России, и различных льгот по службе. К тому же в Польше не было злого демона армии – председателя департамента военных дел графа Алексея Аракчеева, которого люто ненавидела вся страна из-за введения палочной дисциплины и военных поселений (о его выдающейся роли в развитии отечественной артиллерии, за счет которой и был сокрушен Наполеон, не вспоминали). В гвардии опасались, что при Николае Аракчеев сохранит свои позиции. Совершенно напрасно, у великого князя с ним отношения никогда не складывались. Так же странно было ожидать от националиста Николая, что, как писал декабрист подполковник Гавриил Батенков, «множество пруссаков вступят в русскую службу и наводнят Россию, которая и без того уже кажется как бы завоеванной».
Все это говорит лишь о том, что Николая просто не знали, поэтому и приписывали ему всякие несуществующие ужасы.
Попытки великого князя в разговоре с Милорадовичем и Воиновым, в котором он изложил им то, что знает о манифесте, ни к чему не привели. Граф на это даже бровью не повел. Как пишет Трубецкой: «Граф Милорадович отвечал наотрез, что великий князь Николай не может и не должен никак надеяться наследовать брату своему Александру… что законы империи не дозволяют располагать престолом по завещанию, что притом завещание Александра известно только некоторым лицам, а неизвестно в народе, что отречение Константина тоже не явное и осталось не обнародованным; что Александр, если хотел, чтобы Николай наследовал после него престол, должен был обнародовать при жизни волю свою и согласие на него Константина; что ни народ, ни войско не поймут отречения и припишут все измене, тем более что ни государя самого, ни наследника по первородству нет в столице, но оба были в отсутствии; что, наконец, гвардия решительно откажется принести Николаю присягу в таких обстоятельствах, и неминуемо впоследствии будет возмущение. Великий князь доказывал свои права, но граф Милорадович признать их не хотел и отказал в своем содействии».
Великий князь метнулся в Госсовет, предложил Голицыну зачитать манифест членам Совета (сам не имел права являться на заседание – не был его членом). Зачитали – и что? Милорадович (девиз на графском гербе гласил: «Прямота моя меня поддерживает») важно похаживал, выразительно похлопывая себя по карману и настаивая на том, что вообще нет надобности вскрывать пакет с манифестом. Как он вполне прозрачно выразился, «советую господам членам Государственного совета прежде всего тоже присягнуть (Константину. – Авт.), а потом уж делать что угодно». Сановники прятали глаза. Высшая палата все правильно поняла – пытаться спорить с гвардией было бессмысленно. Тем более мнение Константина не было известно, захочет – возьмет обратно свое отречение, и тогда уже полетят головы тех, кто сегодня проголосует «неправильно». Министр юстиции князь Яков Лобанов-Ростовский заметил, что «у мертвых нет воли» (еще бы не заметить, шли разговоры, что именно при Константине князь «будет в силе»). Министр народного просвещения адмирал Александр Шишков (ставленник Аракчеева) его поддержал.
Иными словами, Николаю дали понять, что «задушить, как отца задушили» теперь могут и его самого. Рассчитывать в столице у него было уже практически не на кого. Никто не спешил заверить великого князя в своей поддержке. Именно этим и вызван первоначально показавшийся «странным» ход Николая срочно присягнуть старшему брату, не дожидаясь его письма из Варшавы. При этом рядом многозначительно скрипел сапогами князь Павел Голенищев-Кутузов, участник убийства его отца. Великий князь, оставшись в изоляции, в настоящий момент просто спасал себя. При этом «мамаша» чуть ли не за грудки его схватила: «Что вы сделали? Разве вы не знаете, что есть акт, назначающий вас наследником?» Знал, конечно, но что не имеющему реальной силы Николаю было делать в ситуации, когда все были против него?
Кстати, мало кто обращал внимание на реальную роль Марии Федоровны в политических раскладах двора. Обычно ей отводят функцию «производителя наследников» и строгой, но заботливой наседки в своем семействе. Отнюдь. Еще Екатерина напутствовала Александра в качестве, как она полагала, наследника в том, чтобы тот держал подальше «этих виртембержцев». То есть «мамашу» и ее многочисленную родню, приехавшую в Россию. Трудолюбивый в алькове императрицы Павел в последние годы там не появлялся, предпочитая «мамаше» ее фрейлин Екатерину Нелидову и Анну Лопухину-Гагарину. Более того, обоснованно подозревал ее в заговоре и собирался упрятать в монастырь, женившись на Анне. Она также была не прочь избавиться от экстравагантного супруга с далеко идущими намерениями. Многие помнят, что в роковую ночь 11 марта 1801 года Мария Федоровна в течение 4 часов отказывалась присягнуть Александру, прямо заявив: «Ich will regieren! – Я хочу править!» Немка Екатерина смогла стать полновластной императрицей, почему бы немке Марии не стать ею же? Однако братьев Орловых при Марии не оказалось, были лишь братья Зубовы, желавшие Александра. Тогда она смирилась, но не отказалась от активной роли при сыновьях. Поэтому и постоянно стремилась поучаствовать в великих делах.
Она прекрасно поняла маневр Николая, стремившегося выиграть время – в беседе с младшим Михаилом Мария Федоровна заметила: «Если так действовали, то это потому, что иначе должна была бы пролиться кровь». Большая кровь была еще впереди.
Интересно, что гвардия под давлением генералов присягнула Константину с молниеносной быстротой, словно кто-то очень хотел лишить кого-то вообще возможности для маневра, выбирая между двумя претендентами. По закону, она не могла присягать ранее правительственных учреждений, но «карман Милорадовича» в данный момент был главнее законов.
Члены Госсовета потребовали Николая, дабы тот подтвердил факт своей присяги (далеко не все были за Константина). Под стальным взглядом Милорадовича великий князь явился и вынужден был заявить: «Господа, я вас прошу, я вас убеждаю, для спокойствия государства, немедленно, по примеру моему и войска, принять присягу на верное подданство государю императору Константину Павловичу. Я никакого другого предложения не приму и ничего другого и слушать не стану».
Кто-то из лизоблюдов тут же начал истекать елеем: «Какой подвиг, отказаться от престола!» На что еле сдерживавшийся от всех переживаний Николай резко оборвал: «Никакого тут подвига нет. В моем поступке нет другого побуждения, как только исполнить священный долг мой пред старшим братом. Никакая сила земная не может переменить мыслей моих по сему предмету и в этом деле».
В данной ситуации интересна и позиция «разбудивших Герцена». Со смертью Александра в тайных обществах возник настоящий переполох. Первоначальный план предусматривал вооруженное выступление против Александра и его порядков, но не против Константина, с которым связывались определенные надежды. Как раз таки именно женитьба на польке ставилась славянофильски настроенным заговорщикам благом, ибо оторванный от дворцовых кругов царь вынужден будет искать поддержки «в народе». То есть в них самих. От «народа» в его крестьянском смысле, как известно, они были «страшно далеки». С Константином связывались и внешнеполитические надежды – поддержка греков, разрыв со Священным союзом, перенос Конституции с Польши на российскую почву, импорт европейских либеральных свобод и пр. Сосланный в Михайловское Александр Пушкин восторженно писал 4 декабря 1825 года: «…как поэт радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма: бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем напоминают Генриха V. К тому ж он умен, а с умными людьми все как-то лучше; словом, я надеюсь от него много хорошего».
«Наше все» в радостном возбуждении поставил здесь вообще все с ног на голову: Константин на престол не всходил, «бурную молодость» его лучше бы изучать в прокуратуре, о суворовских походах вообще было бы неплохо помалкивать, зная полководческие «таланты» цесаревича, Барклай не немец, а шотландец, свой «ум» наследник показал только с негативной стороны и пр.
Следует заметить, что длительное пребывание Константина вне России сыграло на его имидж. Сменилось поколение, помнившее его явную уголовщину, грубость и тупое солдафонство до Наполеоновских войн (все это приписали Николаю). Утверждали, что в Польше «его нрав изменился к лучшему». Помнили, что он «суворовец», хотя никто не знал, как отзывался о нем сам генералиссимус. Забыли о шпицрутенах и розгах для дворянства. Цесаревич обрел почти романтический ореол «обиженного» властью претендента на трон. Любимца бабушки (хотя любимцем как раз был Александр). Опять же вспомнился раскол в семье на «екатерининских» и «павловских» детей.
Хотя были и трезвые головы. Мудрая графиня Мария Нессельроде (урожденная Гурьева) писала: «Все эти люди, которые желают его, станут проливать горькие слезы». Командир гвардейской бригады генерал-майор Сергей Шипов (член Союза благоденствия) вообще называл Константина «злым варваром». Появление же в Зимнем дворце какой-то пани Грудзинской вообще воспринималась как катастрофа среди вынужденных делать ей реверансы дам-Рюриковичей.
Литератор Фаддей Булгарин на вопрос «А что, если император (имелся в виду Константин. – Авт.) вдруг явится?» ответил: «Как ему явиться, тень мадам Араужо остановит его на заставе».
В любом случае в принятии трона Константином значительная часть заговорщиков соглашалась, что их активные действия теперь теряют смысл и надо законсервировать или даже распустить тайные общества и ждать лучших времен (назывались сроки от 3 до 10 лет «консервации»). Пока же набирать новых членов, «действуя сколь можно осторожнее, стараясь года в два или три занять значительнейшие места в гвардейских полках». Предполагалось, что Константина можно будет просто убедить в необходимости введения конституции в империи.
Фактически 27 ноября в империи произошел инспирированный высшим генералитетом государственный переворот, при котором воля покойного императора была просто спущена в клозет, а новым царем стал тот, кто более всего устраивал гвардейцев. По мнению Трубецкого, Милорадович «был тогда единственным действующим лицом и распорядителем всего с самого начала и до конца, сохранив присутствие духа, хладнокровную и твердую деятельность. Он был единственным виновником присяги законному наследнику и устранения духовной покойного государя». Иными словами, Милорадович уже посчитал себя князем Пожарским, дарующим корону тому, кого считал наиболее выгодным для себя.
Госсовет и Сенат присягнул, но борьба за власть двух придворных группировок на этом не заканчивалась, она лишь начиналась. Военные жаждали Константина, высшие круги – Николая. Как писал Трубецкой, «надеялись, что при нем двор возвысится, что придворная служба получит опять прежний почет и выйдет из того ничтожества, в котором была при покойном государе и в которое еще бы более погрузилась при Константине».
Теперь все зависело от позиции самого цесаревича.





