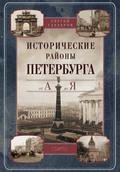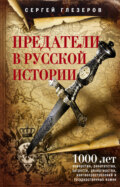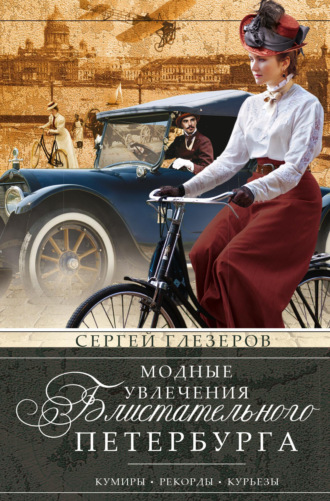
Сергей Глезеров
Модные увлечения блистательного Петербурга. Кумиры. Рекорды. Курьезы
Конькобежный спорт: «Царство конька»
«Конькобежный спорт имеет множество поклонников во всех странах, где только водится лед, и, надо сказать правду, изо всех видов спорта катанье на коньках является самым здоровым, изящным и общедоступным спортом, – писал в 1903 г. любимый многими петербуржцами журнал «Нива». – Немало конькобежцев имеется и в нашей северной столице…»
«Таврические катания»
Считается, что в Петербурге регулярные катания на коньках зародились в середине 1860-х гг. в знаменитом Юсуповом саду на Садовой улице, под эгидой созданного в том же году в столице первого в России конькобежного клуба. Однако пальму первенства оспаривает Таврический сад, где кататься на коньках стали еще в конце 1850-х гг. «Таврические катания» описал в своей юмористической поэме «Тавриада», вышедшей в 1863 г., князь В.П. Мещерский, сам посещавший ежедневно «Таврические горы».
В предисловии он рассказывал: «Стариками, старухами, зрелыми и незрелыми овладела лихорадочная страсть покупать коньки, надевать их, скакать в Таврический сад, падать раз двадцать в минуту и т. п. Нашлись люди, которые по утрам после чая или кофе вместо чтения газет или служебных занятий надевали коньки и летали по всем комнатам под предлогом приготовления к Таврическим катаниям, полотеры приходили в ужас от усиленной работы и кричали по-русски: „О tempora, o mores”»[2]. В своем миниатюрном литературном труде князь Мещерский в довольно комическом виде описал посетителей катка. К примеру:
Вот здоровенного покроя
Почтенный князь головолом:
То полетит с горы он стоя,
То ноги кверху кувырком.
Кто же еще был на катке? Вот – «два немецкие барона», вот – «дипломат австрийской школы», вот – «светский юноша примерный», а вот – «братья громкого прозванья из славных полчищ казаков»… Почти в каждом из таких портретов современники могли узнать конкретного человека, принадлежащего к высшим слоям общества. Понимая, что многим из них навряд ли понравился бы юмор князя Мещерского, тот объявил, что издает свою поэму «в самом ограниченном числе экземпляров, во избежание дуэлей и разных тому подобных приключений». И все же (цитируем снова поэму)—
Люблю тебя, каток, я, мирный,
Ты всех отрада и приют,
Гостеприимный и обширный…
«Каток „режимного” Таврического сада был самым популярным у „золотой молодежи”, – отмечает петербургский исследователь Игорь Зимин. – Он прочно вошел в повседневную жизнь аристократического Петербурга в начале 1860-х гг. Появление нового для аристократии увлечения связывали с цесаревичем Николаем Александровичем и его младшими братьями. Дело в том, что у Александра II подрастали сыновья, и в качестве зимнего развлечения для них устроили каток с горками в охраняемом Таврическом саду. В результате каток Таврического сада стал местом неформального знакомства и общения молодых великих князей с их ровесниками».
Уже упомянутый князь В.П. Мещерский вспоминал, что «в те годы главною сценою для знакомств и для сношений бывали зимние катанья на коньках в Таврическом саду, введенные в моду покойным цесаревичем. Буквально весь бомонд катался на коньках, чтобы ежедневно бывать от 2 до 4 часов на Таврическом катке в обществе великих князей. Другой, более оживленной сцены для знакомств великих князей в то время не было».
Действительно, как отмечает Игорь Зимин, в дневниковых записках воспитателей великих князей можно встретить множество упоминаний о визитах их воспитанников на каток Таврического сада: «Поехали в Таврический сад. Там, на катке, было много посетителей…»; «.отправились в Таврический сад. Туда приезжал государь с великой княжной Марией Александровной, великий князь Константин Николаевич, и было много других посетителей. Великие князья очень весело провели время и с сожалением расстались с горами в четыре часа».
«Поскольку Таврический дворец и сад входили в число дворцовых зданий, то они соответствующим образом охранялись и публику на каток пускали только по специальным билетам, – отмечает Игорь Зимин. – Билеты выдавались на один сезон Канцелярией Министерства Императорского двора. Поскольку на катке собирался весь столичный бомонд, то его посещали не только молодежь, но и почтенные отцы семейств. Дело в том, что на катке не только отдыхали, но и обсуждали деловые вопросы в неформальной обстановке, а молодежь завязывала знакомства и флиртовала».
«Примечательно, что к концу XIX в. сложилась определенная традиция, когда считалось приличным знакомиться и флиртовать не только на великосветских балах, но и на катке Таврического сада, – констатирует Игорь Зимин. – Однако жизнь неизбежно вносила свои коррективы и в зимние забавы. Политический терроризм постоянно сужал „свободную территорию” для членов императорской семьи. И постепенно их поездки на каток Таврического сада прекратились. Однако привычка к этой зимней забаве уже сформировалась. Поэтому после расширения сада Аничкова дворца лед стали заливать там. Устраивали каток и на льду озер Гатчинского парка. Именно там учился кататься на коньках будущий Николай II».
Развлечение «бомонда»
По некоторым сведениям, в 1860 г. в Петербурге появились катки на льду Невы – у Тучкова моста и напротив Морского кадетского корпуса на Васильевском острове. Правда, эти два катка предназначались не для катания на коньках, а для зимних игр, в том числе популярной тогда игры, именовавшейся «клюшки с мячом». Игра напоминала хоккей, но отличалась от него тем, что мяч не забивали в ворота, которых на поле просто не было, а перебрасывали через высокий барьер. Кроме этой игры популярностью на катках пользовались прыжки на коньках в длину – через две метлы, уложенные на льду на определенном расстоянии друг от друга. Однако довольно скоро устроители катков на льду Невы поняли, что гораздо выгоднее заниматься не играми, а пускать всех желающих кататься на коньках.

Почтовая открытка начала XX в.
Особенно много публики привлекал каток у Морского кадетского корпуса. На набережной Невы собиралась обычно толпа зевак: для них это необычное зрелище казалось чуть ли не театральным представлением, тем более что в праздничные дни на катке играли военные оркестры. Кстати, на обоих катках существовали раздевалки, представлявшие собой аляповатые деревянные бараки, обогревавшиеся «немилосердно» дымящимися печами.
Еще один каток появился на Неве напротив 12-й линии Васильевского острова (чуть позже он переехал к Английской набережной). Его устроили барон Фелейзен и английские негоцианты Андерсен и Вишау, а сам каток петербуржцы прозвали «английским» (он просуществовал до 1874 г.). Каток предназначался только для катания на коньках (спортивные игры на нем воспрещались), причем исключительно для самой избранной публики. Сюда впервые стали допускать дам из «великого света», но и то не всех: требовалась рекомендация двух дам – членов совета «английского общества».
Для удобства посетителей с набережной Невы на английский каток вела крытая галерея. В подражание театрам, на противоположной стороне катка устроили «царскую ложу», по бокам которой поставили традиционное русское украшение – чучела медведей. Кроме того, для посетителей построили специальное большое помещение со всеми необходимыми удобствами для хранения коньков и комнатами для переодевания.
«Мода катания на коньках с необыкновенной быстротой охватила высшие слои общества, – отмечает петербургский исследователь Ростислав Николаев. – Английский каток стал самым любимым местом встреч представителей петербургского бомонда. Не чурались его и члены царской фамилии. Огромную роль в увеселительной жизни петербургского бомонда играли проводимые на катке балы, отличавшиеся блеском и роскошью. На балах публику развлекали оркестры, исполнявшие классические и народные произведения».
Красивую картину представляли собой костюмы катавшихся дам и господ. Дамы, как правило, были в богатых черных или цветных бархатных шубках, отделанных мехом соболя. Господа катались в элегантных бархатных венгерках и жакетах.
Кстати, вскоре после открытия английского катка в Петербург пожаловал знаменитый в ту пору американский конькобежец Джексон Гайнс. Он продемонстрировал катание на невиданных до тех пор в России коньках, привинчивавшихся к подошвам обуви и получивших с тех пор название «американских».
Любимый Юсупов сад
В 1864 г. каток появился в Юсуповом саду на Садовой улице. Это место отдавалось городом на зимние сезоны в аренду С.-Петербургскому Речному яхт-клубу для устройства катка. В 1877 г. каток перешел в ведение кружка любителей конькобежного спорта, который образовался из числа постоянных посетителей яхт-клубного катка. Среди учредителей этого кружка были основатель известного в столице «Картографического заведения» А.А. Ильин, архитекторы А.К. Бруни и И.А. Кавос, владелец Орлинского завода химического стекла Н.Е. Ритинг и приват-доцент Петербургского университета В.И. Срезневский.
Последний стал бессменным председателем кружка, получившего название «С.-Петербургское общество любителей бега на коньках», являлся большим энтузиастом конькобежного спорта и фигурного катания. Кроме того, он играл большую роль в спортивной жизни Петербурга в целом. Он был не только хорошим педагогом, но и талантливым организатором. После службы в университете он занимал должность директора Александрийского женского профессионального училища, которую совмещал с активной деятельностью в фотографическом отделе Русского технического общества.
В 1910-х гг. Срезневский являлся председателем Российского Олимпийского комитета, а перед самой революцией – помощником главнонаблюдающего за физическим развитием населения Российской империи генерала Воейкова. При новой власти Срезневскому удалось приспособиться к реалиям жизни, правда, от спортивной деятельности он отошел – уж слишком расходились его взгляды на спорт с «пролетарской классовой линией в деле физической подготовки трудящихся». В советское время он работал по своей специальности – научным сотрудником Ленинградского института кинематографии. Тем не менее даже в 1920-х гг. Срезневский не терял надежды продолжить спортивные традиции «юсуповцев»: при его содействии «юсуповская» команда хоккеистов еще долго продолжала тренировки и выступления под названием «Ленинградское общество любителей бега на коньках» (ЛОЛБЕК)…
По воспоминаниям знаменитого фигуриста Н.А. Панина-Коломенкина, чье спортивное становление произошло именно на катке Юсупова сада, все хозяйственные и спортивные мероприятия общества, начиная от ежегодной постройки разборного дома в саду до проведения соревнований, проходили под руководством Срезневского. Кроме того, он активно участвовал в международных конгрессах конькобежцев, являлся непременным членом судейских коллегий и постоянным секретарем общих собраний членов общества.

В.И. Срезневский. 1915 г. Фотограф Карл Булла
Каток в Юсуповому саду стал центром притяжения спортсменов, здесь проводились многие отечественные и международные соревнования конькобежцев, устанавливались многие всероссийские и всемирные рекорды. Кроме того, собиралось здесь на праздники и для увеселения громадное количество петербургской публики всех сословий.
В то же время этот лучший в Петербурге каток был не только ареной спортивных событий и любимым местом отдыха, но и сложнейшим хозяйством, которое все время поддерживалось в образцовом порядке. Каток был не наливным, а устроенным на естественном водоеме, и потому в большие морозы лед сильно трескался. Щели постоянно замазывались смоченным снегом. «Поливка льда производилась ежедневно и притом так тщательно, что лед, по сравнению с другими катками, казался идеальным», – рассказывал потом Н.А. Панин-Коломенкин.
Безукоризненным льдом, чистотой, удобством и образцовым порядком на катке его посетители были обязаны артели рабочих общества во главе со старостой Григорием Михайловичем Архиповым. Ее составлял десяток крестьян-рыбаков из города Новая Ладога под Петербургом. Из года в год они приходили зимой на сезонные заработки в столицу и получали в обществе верную работу, потому что места сохранялись за ними в наследственном порядке. Ежедневно, и даже при самой плохой погоде, артельщики готовили к 8 часам вечера для фигуристов отличный лед. Работали они, естественно, вручную – с метлами и скребками, а поливали лед водой из цветочных леек. А если в часы общего катания шел сильный снег, то артельщики непрерывно убирали снег широкими лопатами, так что благодаря им каток действовал без перебоев.
«Все члены артели были патриотами своего катка, гордились им и украшали его декоративными постройками изо льда и снега, – вспоминал Н.А. Панин-Коломенкин. – Дети, посещавшие каток в утренние и дневные часы, всегда пользовались вниманием и, в случае надобности, содействием любого из рабочих; это соответствовало семейному характеру общества».
Слава о Юсуповом саде шла по всей столице и далеко за ее пределами. Говорили, что там все великолепно катаются и что туда пускают только после экзамена по искусству владения коньками. Правда, на деле слухи об экзаменах не подтверждались, но катались там действительно на очень высоком уровне. Каток сверкал голубоватым светом электрических фонарей, а разноцветные огни освещали «фантастические декорации и ледяные архитектурные сооружения». По четвергам и воскресеньям далеко по окрестным улицам разносилась с катка музыка военного оркестра.
«Среди конькобежцев-спортсменов можно выделить „фигуристов” и „скороходов”, – замечал обозреватель журнала «Спорт». – В Юсуповом саду устроилась прямо-таки академия фигуристов, которая фабрикует новых и совершенствует старых».
В одном из февральских номеров петербургского журнала «Спорт» за 1901 г. появились стихи под названием «В Юсуповом саду», подражавшие знаменитым некрасовским строчкам, которые сегодня знает наизусть практически каждый школьник. Автор поэтического произведения на страницах журнала «Спорт» пожелал не оставлять своего имени. Тем не менее, стихи его любопытны как реликвия спортивной истории: в них современный читатель найдет интересные штрихи к облику катка в Юсуповом саду, а также встретит имена знаменитых конькобежцев рубежа XIX—XX вв. – Срезневского, Паншина и Панина-Коломенкина. Мы позволили себе привести здесь эти стихи полностью, без каких-либо купюр и сокращений.
Не ветер бушует над бором,
Не с гор устремился поток:
Срезневский и Паншин дозором
Обходят Юсупов каток.
Глядят, чтобы флаги висели,
Чтоб лед сторожа подмели,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли.
Окончив привычное дело,
Дают к состязанию знак.
И воздух разрезавши смело,
Стартера мелькает уж флаг.
И музыка громко играет,
Толпится в трибунах народ.
И Панин уже выезжает
С улыбкой веселой на лед.
И делая тройки, восьмерки,
Изрезал он целый каток.
А судьи внимательно зорки,
Прилежно глядят на конек.
Но Панина плавны движенья,
А промахов нет и следа.
В нем школа видна, и уменье,
И знанье лазурного льда.
«Каждые пруд или лужа заняты катками»
В столичной прессе конца XIX – начала XX вв. можно встретить немало предписаний городских властей, регламентировавших правила содержания катков и поведения на них. Сегодня они, наверное, воспринимаются с улыбкой, а тогда редко кто осмеливался их нарушить – грозный полицейский пристав был тут как тут на страже порядка.
К примеру, вот что говорилось в приказе петербургского градоначальника, опубликованном в столичных газетах в начале декабря 1899 г.: «Ввиду открытия на реках и каналах столицы, а равно в Юсуповом саду катков для катания на коньках, предлагаю приставам обратить особое внимание: 1) На безусловно опрятное содержание буфетов, а также помещений, предназначенных для публики и для жилья рабочих, требуя при этом, чтобы отопление производилось в достаточной степени и соответствующим топливом. 2) На каток не должны быть допускаемы лица в нетрезвом виде, а равно на катке не должно быть разрешаемо распитие спиртных напитков. 3) Прислуга должна быть трезвая, вежливая, одета опрятно и иметь на шапках однообразного вида металлические номерные знаки. 4) На катке постоянно должен находиться для наблюдения за порядком хозяин заведения или доверенное им лицо».
Местами устройства катков являлись замерзшие водные поверхности Невы, Фонтанки, Мойки и Екатерининского (ныне – Грибоедова) канала. Как с иронией замечал репортер «Петербургского листка», «без преувеличения можно сказать, что в ту пору не было, кажется, ни одного замерзшего пруда или лужи, которые не были бы заняты катками». Более того, иногда петербуржцы устраивали большие конькобежные прогулки вокруг Петербургского и Васильевского островов и даже походы на коньках по Финскому заливу до Кронштадта.
Что ж, зимы тогда были не то, что теперь, и за крепость питерского льда можно было не опасаться (вспомним, что по Неве даже трамвайную линию пускали!). Правда, частые оттепели и тогда прибавляли хлопот, к тому же в Фонтанку стали спускать теплую воду из сточных труб, что отрицательно влияло на качество льда.
Так, в январе 1890 г. на одном из столичных катков, расположенном на льду Екатерининского канала и принадлежавшем купцу Родиону Еремееву, случилось чрезвычайное происшествие: он провалился под воду. Дело было так: с самого утра, по случаю воскресенья и прекрасной погоды, «Еремеевский» каток переполняли конькобежцы. В самый разгар веселого бега посередине катка, напротив музыкантской будки, раздался страшный треск: подтаявший лед не выдержал и провалился вместе с конькобежцами.
К счастью, оказалось, что канал, даже посередине, настолько мелкий, что потонуть в нем довольно трудно. Поэтому все провалившиеся вскоре выкарабкались наружу и, не на шутку разгневанные, потребовали составить протокол о случившейся катастрофе. «На этот раз, благодаря мелководью в канале, все обошлось без более серьезных последствий, ибо, надо полагать, пострадавшие поплатятся разве только легким гриппом или припадком инфлуэнцы, – сообщал газетный репортер. – Могло, однако, окончиться хуже. Кто же виноват в этой катастрофе?»
Действительно, петербургские катки, устраиваемые в ту пору на замерзших реках и каналах, таили немалую опасность, и катастрофа могла произойти любую минуту. Поэтому выход предлагали один – делать катки на днищах деревянных барок, которые летом приводили в Петербург. После того как несколько раз конькобежцы провалились под лед (правда, неглубоко), петербургская пресса активно заговорила о безопасности катков.
В феврале 1890 г. «Петербургский листок» отмечал, что в столице есть только один безопасный каток – на Обводном канале, напротив городской скотобойни: только он устроен на днищах барок. Очевидно, вскоре после этого и остальные городские катки стали устраиваться подобным образом. Барки, привезенные в столицу, перед закрытием навигации продавались очень дешево.
«Отличны во всех отношениях»
Каждый питерский каток имел свою публику: на Фонтанку, Мойку и Екатерининский канал ходила почти исключительно учащаяся молодежь, на Большой Неве напротив Михайловского артиллерийского училища устраивали бесплатный каток для бедных детей местных обывателей. Бесплатно можно было кататься и на катках Общества содействия физическому развитию.
Со временем география столичных катков менялась: исчезали старые, появлялись новые. Один из любимых петербургских катков находился в начале XX в. на Марсовом поле. Гонщики-конькобежцы в один голос хвалили его за размеры и «колоссальные повороты», благодаря которым можно было развивать какой угодно ход, не боясь, что «занесет».
«Каток на Марсовом поле вполне безопасен, как устроенный на твердом и ровном грунте, благодаря чему лед не дает трещин», – сообщал один из столичных спортивных журналов. Безупречные качества этого катка послужили одной из причин того, что именно здесь в феврале 1903 г. проходили международные конькобежные состязания, посвященные 200-летию Петербурга. В них участвовали лучшие конькобежцы из Берлина, Вены, Христиании (Осло), Давоса и Выборга.

Конькобежные состязания на Марсовом поле. На старте – Г.С. Киселев.
1914 г. Фотограф Карл Булла
«Беговая дорожка отлична во всех отношениях, – замечал современник. – Некоторые гонщики жалуются, правда, на недостаток освещения: поворот, который ближе к Неве, совершенно потонул во тьме, да и вообще фонари как-то подозрительно подмигивают. Следовало бы все это привести по возможности в порядок».
Кроме того, возражения многих гонщиков вызывало то, что беговую дорожку от общей площадки отделяли «какие-то толстые, невысокие чурбаны, их можно оставить только на прямых, на поворотах же необходимы тонкие и длинные палки». Иначе при столкновении с чурбаном гонщики рисковали иметь «крайне неприятные последствия».
Не меньшее, чем для серьезных спортсменов, значение имел каток на Марсовом поле для молодых гонщиков, а также для петербургских школьников. Он был своего рода учебным центром для начинающих конькобежцев. При этом половина катка отводилась для обучающихся катанию, а другая – для фигурной езды.
Для школьников каток работал каждый день от двух до пяти в учебные дни, а также от часа дня до пяти часов – в неучебные дни. В это время для «надзора за учащимися» там дежурили учителя. Прислуга детей, пришедших кататься, на каток не допускалась. Ей полагалось ожидать своих подопечных в помещении кассы.
Были разработаны подробные «условия для всех учебных заведений». Четко оговаривались финансовые условия. Абонементная плата для школьников составляла два рубля за сезон, но только за специально отведенное время. Если школьник хотел оставаться на катке и дальше, ему приходилось брать дополнительный билет.
«Для сохранения порядка» езда на коньках на катке Марсова поля должна была происходить только в одну, правую сторону. Катание с санями разрешалось только по краям катка, а для бега на лыжах предназначалось покрытое снегом пространство между забором и катком.
Чтобы дать возможность дешево приобрести коньки или лыжи, администрация катка предлагала учащимся скидки в 15% с цены, указанной в магазинных каталогах. Те, кто не имели своих коньков, могли взять их на катке напрокат. Правда, как отмечалось в «условиях», «наемные коньки – в ограниченном количестве и низшего качества».
Администрация катка делала все, чтобы обеспечить комфортные условия для всех, кто приходил сюда. При катке устроили «теплый чайный буфет без спиртных напитков». Школьникам стакан чая или бутерброд отпускался по «пониженной цене» – за пять копеек. Для учащихся сделали отдельные отапливаемые гардеробные с отдельным ходом. Если на катке происходили несчастные случаи, то пострадавшие могли обратиться в специальную аптечку с перевязочными материалами.
На катках не только занимались спортом или просто проводили время. Здесь устраивались феерические балы и маскарады, с музыкой, иллюминацией и фейерверками. Новый год и Рождество отмечались традиционной елкой на катке в Юсуповом саду на Садовой улице. Это была давняя петербургская традиция, которую осуществляло каждый год С.-Петербургское общество любителей бега на коньках. К праздникам громадный каток Юсупова сада обычно украшался разноцветными электрическими лампочками. Ставилась гигантская елка, она также освещалась сотнями электрических огней. Украшались и многочисленные сооружения изо льда, находившиеся возле катка, – башни, гроты и домики.
Играли военные оркестры, под звуки их музыки сотни петербуржцев – любителей конькобежного спорта, лихо проносились парами, одиночками и целыми группами, восхищая многочисленных зрителей ловкостью и грацией искусного катания на коньках. Детям вручались рождественские подарки. Ближе к полуночи устраивался блистательный фейерверк, привлекавший толпы зрителей к решетке Юсупова сада.
Из года в год старейшее общество любителей бега на коньках устраивало на катке Юсупова сада «проводы зимы». Эта традиция сохранялась несколько десятков лет. Вот как, например, описывал «Петербургский листок» праздник Масленицы на катке Юсупова сада в феврале 1898 г.: «К восьми часам вечера на катке была зажжена грандиозная иллюминация. Центральную его площадь обрамляли фантастический ледяной дом, оснащенный корабль, затертый льдинами, гигантская арка, усеянная тысячами лампионов, крылатые коньки, щиты и проч. Посредине катка возвышалась громадная ледяная глыба, изнутри освещавшаяся разнообразными электрическими лампочками».
Среди трехсот (!) костюмированных участников можно было увидеть исторические и сказочные личности – «Наполеон I», «Дон-Базилио», «Баба-Яга», «Ландскнехт», «Путешественник по Африке», а также персонажей в национальных костюмах – шотландцев, бухарцев, татар, испанцев, неаполитанцев и пр., а кроме того, ряженых трубочистов, дворников, поваров, бродяг, клоунов и т. д.
Представьте теперь себе все это разношерстное общество, вальсирующее по прудам Юсупова сада! Ну а вечером, как водится, устраивался грандиозный фейерверк.
Традиция спортивного праздника Масленицы, тем не менее, претерпевала некоторые изменения. Спустя полтора десятилетия после описанного феерического шоу все выглядело гораздо проще и вместе с тем мило и как-то по-домашнему уютно. Итак, март 1913 г. По приглашению любезных хозяек-распорядительниц праздника Срезневской, Паншиной, Кузнецовой, Сандерс и Петровской (все они – супруги известных конькобежцев, участников С.-Петербургского общества любителей бега на коньках) тесная и дружная «семья конькобежцев» собиралась к десяти часам утра на «утренний кофе», сервированный на обширной веранде.
«Вчерашним проводам зимы на редкость благоприятствовала погода, – сообщал на следующий день газетный репортер. – Выдался тихий, ясный, солнечный, даже жаркий день. Вся веранда была залита ярким, весенним солнцем. Было настолько тепло, что завтрак перенесли на открытую террасу».
За кофе велись умные беседы о минувшем зимнем сезоне, звучали тосты за здоровье гостеприимных хозяек, за всеми любимого и уважаемого председателя С.-Петербургского общества любителей бега на коньках В.И. Срезневского. А на самом катке, который от долго стоявшей оттепели и первых весенних дождей уже совершенно испортился, но все же еще сохранял довольно плотную ледяную массу, молодежь и подростки катались на дровнях, играли в мяч и футбол, а некоторые спортсменки пробовали кататься на коньках. Тем временем любители-фотографы спешили запечатлеть на своих «кодаках» всевозможные сценки, придававшие своеобразную прелесть этим милым «проводам зимы». К исходу пятого часа пополудни, после чая и обильного угощения, помещение Юсупова катка стало постепенно пустеть. Собравшиеся прощались друг с другом до будущего зимнего сезона.
Катание на катках являлось одним из любимых занятий не только в Петербурге, но и в его ближних окрестностях. К примеру, один из лучших катков России, по признанию современников, устроило в Царском Селе общество «Луч». Оно возникло в марте 1907 г. и ставило своей целью «содействие нравственному, умственному и физическому развитию молодых людей». А в конце того же года гимнастический отдел «Луча» открыл каток. Благодаря хлопотам председателя общества Харченко и содействию начальника дворцового управления Пешкова для катка отвели большое озеро в Екатерининском парке.
Каток расположился вокруг острова, где находилось здание павильона, построенное еще при Елизавете Петровне. Его приспособили под мужские и дамские комнаты, а также под буфет. На острове поставили скамейки, предназначенные для «гуляющей публики».
«Громадный размер катка дает возможность устраивать беговую дорожку в 700 метров, которая может стать первой в мире, – писал журнал «Спортивная жизнь». – Каток освещен электрическими фонарями и представляет изящную картину. Вообще, каток очень красив по месту расположения: видны Большой дворец, Турецкие бани, памятник князю Орлову-Чесменскому. Бесспорно, каток является одним из лучших в России. Едва ли где можно найти второй такой каток».

Карнавал на катке Юсупова сада. 22 февраля 1908 г. Фотограф Карл Булла
Общество «Луч» устраивало на катке различные состязания и праздники. Здесь проводились соревнования на коньках, игры в хоккей, новогодний елочный праздник, а также костюмированные вечера. Эти вечера сопровождались обычно грандиозными фейерверками и привлекали много публики. На одном из них, состоявшемся в феврале 1908 г., состоялся конкурс костюмов. Победителем становился тот, кто набирал больше билетов от участников бала. Первый приз, «золотой жетон», присудили Валентине Николаевне Кулепетовой за голубой костюм с крыльями, изображавший бабочку. Второй приз получил комический персонаж «старик с собакой, продававший рыбу салаку», третий – некто, одетый в костюм корсара. Кроме призовых, оригинальны были костюмы «кот в сапогах» и «повар с кастрюлями».