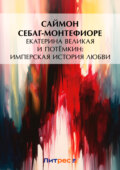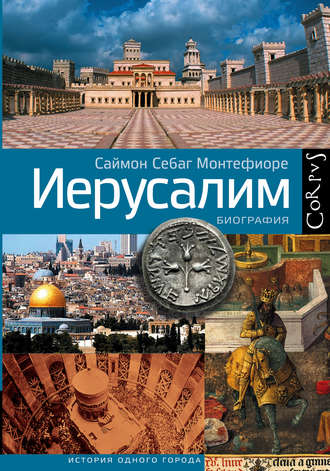
Саймон Себаг-Монтефиоре
Иерусалим. Биография
Агриппу почти всегда сопровождала его родная сестра Береника. Она трижды побывала замужем (в том числе дважды становилась царицей), а недавно вступила в любовную связь с Титом. Впоследствии ее недруги в Риме окрестили ее “еврейской Клеопатрой”. Беренике было около сорока лет, однако она находилась “в расцвете своей красоты”, отмечает Иосиф. В начале иудейского восстания Береника и ее брат, жившие вместе (и находившиеся в кровосмесительной связи, как утверждали их враги), пытались увещевать мятежников, взывая к их благоразумию. Теперь же эти три еврея беспомощно наблюдали за “смертельной агонией славного города”, причем Береника делала это непосредственно из постели его разрушителя.
Пленники и перебежчики приносили из города вести, приводившие в ужас Иосифа, чьи родители все еще оставались в стенах осажденного Иерусалима. Даже у воинов на стенах закончились запасы пищи, и они также начали преследовать, обыскивать и расчленять совсем немощных и мертвых в поисках золота или еды, блуждая повсюду “с широко разинутыми ртами, как бешеные собаки”. Они ели навоз домашних животных, кожу, которую срывали со своих щитов, варили кожаные пояса, башмаки, набивали рты сухим сеном. Некая богатая женщина по имени Мария, потеряв все свои деньги и лишившись съестных припасов, настолько обезумела от голода и злобы, что умертвила собственного сына, “изжарила его и съела одну половину, другую половину прикрыла” и оставила про запас. Запах жареного мяса распространился по городу, мятежники почуяли его и вторглись в дом. Но даже эти отъявленные головорезы ужаснулись при виде наполовину съеденного детского тела и удалились “в страхе и трепете”.
Шпиономания и безумие завладели Священным городом – так он именовался на иудейских монетах. Сумасшедшие шарлатаны и призывавшие к непрестанной молитве проповедники бродили по улицам, суля освобождение и спасение. Иерусалим был, по словам Иосифа, подобен дикому зверю, обезумевшему от голода и готовому пожрать собственную плоть.
В восьмую ночь месяца ава Тит удалился в свою палатку, приказав легионерам затушить огонь, вспыхивавший повсюду, куда достигало расплавленное серебро обшивки ворот. Но защитники города напали на римских пожарных. Римляне, поначалу отступившие под их натиском, затем все же оттеснили евреев во внутренний двор Храма. Один из легионеров, “точно по внушению свыше, схватил пылающую головню и, приподнятый товарищем вверх, бросил ее через золотое окно, которое вело в окружавшие храм помещения с северной стороны”. Иудеи, завидев, как пламя пожирает Святая святых, “подняли вопль, достойный столь рокового момента, и ринулись на помощь Храму, не щадя сил” и своих жизней. Но было слишком поздно. Повстанцы вновь забаррикадировались во внутреннем дворе и оттуда взирали на огонь в молчаливом ужасе.
Тит находился всего в нескольких метрах от пожара, в руинах крепости Антония. Когда ему доложили о происходящем, он сразу вскочил с ложа и “бросился к Храму, чтобы прекратить пожар”. Его сопровождали Иосиф и, возможно, Агриппа с Береникой. А следом спешили тысячи римских солдат – все “переполошенные происшедшим”. Пламя неистовствовало. Иосиф утверждает, будто Тит снова приказал тушить пожар, но у этого историка-коллаборациониста были все основания оправдывать своего покровителя. Как бы там ни было, к небу возносились вопли, пожар бушевал, а римские солдаты помнили, что по законам войны город, столь долго и упорно сопротивлявшийся, должен быть отдан им на разграбление.
Они делали вид, что не слышат приказов Тита, и кричали своим товарищам, стоявшим в передних рядах, чтобы те бросали еще больше огня в Храм. Солдаты были настолько увлечены происходящим, что многих из них затоптали свои же или они задохнулись среди дымящихся развалин, жаждая мщения и золота (которого римляне в результате награбили столько, что после падения Иерусалима оно вдвое упало в цене в восточных провинциях империи). Тит, не в силах остановить пожар и, наверное, уже предвкушая окончательную победу, прошел по горящему Храму и вошел в Святая Святых. Даже первосвященнику дозволялось вступать сюда только раз в год, и ни один чужестранец не осквернял святости этого места с того момента, как в 63 году до н. э. сюда вошел Помпей, покоритель Иерусалима.
Теперь и Тит “вступил в Святая Святых и обозрел его внутренность. Он нашел все гораздо более возвышенным, – пишет Иосиф, – чем та слава, которой это место пользовалось у чужестранцев, и нисколько не уступающим восхвалениям и высоким отзывам туземцев”. Тогда Тит приказал своим центурионам наказывать солдат, продолжавших поджигать Храм, но их “гнев и ненависть к иудеям и пыл сражения превозмогли даже уважение к цезарю”. И когда адское пламя взметнулось уже в Святая Святых, сопровождавшие Тита настояли, чтобы он удалился в безопасное место. “И никто уже не препятствовал стоящим снаружи солдатам поджигать”.
Побоище продолжалось и в огне. Ошеломленные, изголодавшиеся, потерянные и отчаявшиеся жители Иерусалима бродили по горящим галереям. Тысячи людей – и мирных жителей, и вооруженных повстанцев – собрались на ступенях жертвенника, готовые дать последний безнадежный бой или просто умереть. Хмельные от ярости и близкой победы легионеры перерезали всех, и учиненная бойня напоминала массовое жертвоприношение: вокруг алтаря грудой лежали тела мертвых, и кровь текла рекой по его ступеням. Десять тысяч евреев погибли в пылающем Храме.
Трескавшиеся камни и горевшие деревянные балки производили звук, напоминавший протяжные раскаты грома. Иосиф описывает гибель Храма:
“Треск пылавшего повсюду огня сливался со стонами падавших. Высота холма и величина горевшего здания заставляли думать, что весь город объят пламенем. И ужаснее и оглушительнее того крика нельзя себе представить. Все смешалось в один общий гул: и победные клики дружно подвигавшихся вперед римских легионов, и крики окруженных огнем и мечом мятежников, и смятение покинутой наверху толпы, которая в страхе, вопя о своем несчастье, бежала навстречу врагу; со стенаниями на холме соединялся еще плач из города, где многие, беспомощно лежавшие, изнуренные голодом и с закрытыми ртами, при виде пожара собрали остаток своих сил и громко взвыли. Наконец, эхо, приносившееся с Переи и окрест лежащих гор, делало нападение еще более страшным. Но ужаснее самого гула была действительная участь побежденных. Храмовая гора словно пылала от самого основания, так как она со всех сторон была залита огнем, но шире огненных потоков казались лившиеся потоки крови, а число убитых больше убийц”.
Храмовая гора – одна из двух гор иерусалимских, та, на которой царь Давид в свое время поместил Ковчег Завета, а его сын Соломон построил Первый Храм, – была со всех сторон охвачена огнем; под мертвыми телами не было видно земли. Солдаты ступали прямо “по грудам мертвецов”. Священники еще пытались сопротивляться, а некоторые бросились в огонь и сгорели вместе с Храмом. Римляне, видя, что внутренний храм уже разрушен, рыскали в поисках золота и драгоценной утвари и, вне себя от возбуждения, спешили вынести добычу, пока огонь окончательно не поглотил здание.
Когда внутренний двор выгорел и начал заниматься рассвет нового дня, уцелевшие повстанцы все же прорвались через римские укрепления в лабиринт внешних дворов, некоторым даже удалось укрыться в городе. Римляне в ответ пустили конницу, “убивая иудеев на пути несметными массами”, а затем подожгли сокровищницу Храма, где хранилось бесчисленное множество серебряных монет – храмовый налог, который обязаны были платить все евреи, проживавшие на огромном пространстве от Александрии до Вавилона. Сокровищница находилась в женском дворе Храма, где собрались шесть тысяч женщин и детей: их привел сюда некий лжепророк, велевший им ждать в Храме “знамений вашего спасения”. Легионеры подожгли галерею, окружавшую двор, и все эти несчастные сгорели заживо.
Римляне водрузили своих орлов на Храмовой горе и в присутствии Тита совершили благодарственные жертвоприношения своим богам, приветствуя своего военачальника почетным титулом imperator – “властитель”.
Несколько священников все еще скрывались подле Святая Святых. Двое из них бросились в огонь и сгорели заживо, а один вымолил себе помилование, выдав римлянам храмовые сокровища – два золотых светильника и “много другой утвари, употреблявшейся при богослужении… облачения и пояса священников, массу пурпура и шарлаха… много корицы, кассии и других благовонных веществ, из которых каждый день составлялась смесь для воскурения Богу”. Когда же, изнуренные голодом, сдались и остальные священники, Тит приказал их казнить со словами: “Жрецам подобает погибнуть вместе со своим храмом!”
Иерусалим был (и до сих пор остается) городом подземных туннелей. И уцелевшие повстанцы растворились в подземельях, сохраняя при этом контроль над Сионской крепостью (Нижним Городом) и Верхним городом на западном холме. Титу потребовался еще месяц, чтобы окончательно покорить Иерусалим. Когда же город наконец пал, римляне со своими сирийскими и греческими союзниками “устремились с обнаженными мечами по улицам, убивая беспощадно всех попадавшихся им на пути и сжигая дома вместе с бежавшими туда людьми”. С наступлением вечера кровавое побоище прекратилось, “огонь же продолжал свирепствовать и ночью”.
Тит провел переговоры с двумя предводителями повстанцев на мосту, перекинутом через долину, разделявшую Верхний город и Храмовую гору. Римский полководец обещал мятежникам жизнь, но те снова отказались сдаться. Тогда Тит приказал жечь и грабить Нижний город, в котором едва ли не каждый дом и так был наполнен мертвыми телами. Когда мятежники отступили во дворец и Цитадель Ирода, Тит построил осадный вал у стен Верхнего города, чтобы под его прикрытием сделать подкопы под стены. В седьмой день месяца элула, то есть в середине августа, римляне пошли на штурм. В конце концов евреи, сражавшиеся в подземных туннелях города под началом одного из своих вождей, Иоанна из Гисхалы, сложили оружие (самого вождя римляне пощадили, хотя и обрекли на вечное заточение). Другой вождь иудеев, по имени Шимон Бар-Гиора, вышел в белой тунике из подземного убежища под Храмом и был тут же закован в цепи; Тит “приказал сохранить его для триумфа, который имел в виду праздновать в Риме”.
Разграбив город, римляне начали методично разрушать его. Иерусалим исчез с лица земли, и время сохранило для нас леденящие свидетельства гибели города и горожан. Римляне не щадили ни старых, ни немощных: скелет женской кисти, найденный на пороге сгоревшего дома, свидетельствует о панике и ужасе, царивших в погибающем городе; пепел домов в Еврейском квартале дает представление об огненном аде, бушевавшем здесь. Две сотни бронзовых монет были обнаружены в лавке на улице под монументальной лестницей, ведущей к Храму: видимо, кто-то пытался в последние минуты перед гибелью спрятать свои сбережения.
Вскоре и сами римляне устали убивать. Уцелевших жителей Иерусалима согнали в женский двор Храма, и там римляне каждому определили его участь: тех, кто был схвачен с оружием в руках, убили на месте, крепких телом отправили в египетские рудники, молодых и красивых продали в рабство, иных отобрали на растерзание львам в цирковых зрелищах или предназначили для триумфального шествия в Риме.
Иосиф Флавий обнаружил среди несчастных пленников собственного брата и полсотни друзей, которых Тит по его просьбе освободил. Родители Иосифа, вероятно, погибли. Еще троих своих друзей Иосиф узнал среди распятых, но еще живых. Пораженный в самое сердце, он сказал об этом Титу, и тот приказал снять казненных с крестов и привести к ним врача. Но из троих выжил только один.
Тит решил, как когда-то Навуходоносор, сровнять город с землей, однако ответственность за гибель Иерусалима Иосиф возлагает прежде всего на мятежников: “Междоусобная война уничтожила город, а римляне уничтожили междоусобицу”. Разрушение Храма, самого внушительного и монументального сооружения Ирода Великого, было, вероятно, непростой инженерной задачей. Огромные тесаные камни Царского портика рухнули вниз на недавно вымощенную площадь; эта гигантская каменная груда была найдена спустя две тысячи лет на том же месте под многовековой толщей культурного слоя. Каменные обломки заполнили долину – ныне почти незаметную – между Храмовой горой и Западным холмом. Сполии, архитектурные детали и фрагменты Иродова Храма и разрушенного города I века, можно и сегодня увидеть в самых разных городских кварталах: эти камни снова и снова использовались всеми завоевателями и строителями Иерусалима – от римлян и арабов до крестоносцев и турок-османов – на протяжении более чем десяти столетий после Тита.
Никто не знает точно, сколько людей погибло при падении Иерусалима; древние авторы довольно беззаботно обращаются с цифрами. Тацит считает, что в осажденном городе было заперто 600 тысяч человек, а Иосиф Флавий утверждает, что их было больше миллиона. Но каково бы ни было точное число жителей и защитников Иерусалима, оно огромно, и все эти люди либо умерли от голода, либо были убиты или проданы в рабство.
Из Иерусалима Тит отправился в гости к Беренике и Агриппе в их столицу – Кесарию Филиппову (этот город находился на горном плато, которое сейчас называется Голанскими высотами). Там он “устраивал всякого рода зрелища, где множество пленников нашли свою смерть, частью в борьбе с дикими животными, большей же частью в поединках друг с другом, к которым их принуждали” победители. Затем покорителя Иерусалима чествовали на празднествах в цирке Кесарии Приморской, которые стоили жизни еще 2,5 тысячи пленных, убитых в ходе цирковых зрелищ. Еще больше евреев были преданы мученической смерти на потеху победителям в Бейруте. И наконец, Тит отправился в Рим, чтобы справить там триумф.
Тем временем его легионеры разрушили практически весь Иерусалим. Тит приказал оставить только часть обводной стены, чтобы разместить там гарнизон Десятого легиона, и три башни Цитадели Ирода, которые должны были “служить свидетельством для потомства, как величественен и сильно укреплен был город, павший перед мужеством римлян”. “Таков был конец этого великолепного, всемирно известного города”, – заключает Иосиф Флавий.
За пять столетий до этих событий вавилонский царь Навуходоносор полностью разрушил Иерусалим. Множество пленных было угнано в Месопотамию, и все же через 70 лет после этого евреи вернулись в город, а Храм был отстроен заново. Однако после погрома, учиненного римлянами, Храм так никогда и не будет восстановлен, а евреям, если не считать нескольких кратких периодов, не суждено было снова стать хозяевами Иерусалима еще без малого две тысячи лет. И все же в пепел этой ужасной катастрофы легли семена, из которых пророс современный иудаизм: именно этот погром превратил Иерусалим в святыню для христианства, а позже – для ислама.
Согласно одной из возникших гораздо позже раввинистических легенд, в самом начале осады иерусалимский раввин Иоханан бен Заккай приказал своим ученикам вынести себя из обреченного города в гробу – метафора рождения нового иудаизма, больше не опирающегося на культ жертвоприношений в Храме.
Иудеи, выжившие в Иудее и Галилее, а также большие еврейские общины, рассеянные в землях Римской и Персидской империй, оплакивали потерю Иерусалима и благословляли разрушенный город. Библия и устное предание заняли в иудаизме место Храма, но, согласно одному из преданий, Божественное присутствие (Шхина) на три с половиной года почило на Масличной горе, ожидая, не будет ли восстановлен Храм, прежде чем отлететь на небеса.
Разрушение Иерусалима имело решающие последствия и для христиан. Маленькая христианская община Иерусалима, возглавляемая Симоном, сводным братом Иисуса, покинула город еще до того, как римляне осадили его. Хотя в римском мире к тому времени было уже немало крещеных язычников, члены иерусалимской общины считали себя соблюдающими Закон иудеями и молились в Храме. Теперь же, когда Храм был разрушен, христиане во всех концах империи решили, что избранный народ лишился благоволения Божьего: последователи Христа провозгласили самих себя “избранным народом”, единственными правомочными наследниками ветхозаветного иудаизма. Христиане рисовали в своем воображении новый, Небесный Иерусалим, а не разрушенный еврейский город. Самые ранние из Евангелий, написанные, вероятно, вскоре после падения Иерусалима, содержат пророчества Иисуса о гибели города (“когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его”) и о разрушении Храма (“…из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне; все будет разрушено”). Разрушенное святилище и гибель иудеев стали для христиан еще одним доказательством истинности нового Откровения.
В 620-х годах, когда пророк Мухаммед начал проповедь своей религии, он позаимствовал для нового культа некоторые иудейские традиции: например, обычай обращаться лицом к Иерусалиму во время молитвы и почитание иудейских пророков. Он также считал, что разрушение Храма стало доказательством того, что Бог лишил своей милости евреев, перенеся ее на сынов ислама.
Есть большая ирония истории в том, что решение Тита разрушить еврейский город сделало Иерусалим воплощением святости для двух других “народов Книги”. Однако образ Святого Города не возник сам собой; этот образ ковался сознательными усилиями нескольких великих людей. Около 1000 года до н. э., за тысячу с лишним лет до Тита, первый из этих людей захватил Иерусалим.
Это был царь Давид.
Часть первая. Иудаизм
…И назовут тебя городом Господа, Сионом Святаго Израилева… Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город Святый!
Исайя, 60:14, 52:1
Я… родился в Иерусалиме, где стоит верховный Храм Всевышнего, Великого Бога… Святой город, метрополия не только Иудеи, но многих других земель, ибо когда-то еврейские переселенцы обосновались как в сопредельных странах – в Египте, Финикии и Сирии, – так и в далеких – в Памфилии, Киликии и в Азии вплоть до Вифинии и самых отдаленных заливов Понта; и точно так же в Европе – в Фессалии, Беотии, Македонии, Этолии, Аттике, Аргосе, Коринфе – в большинстве лучших земель Пелопоннеса…
Не говорю о землях за Евфратом.
Иудейский царь Агриппа I.
Цитируется у Филона Александрийского
Тот, кто не видел Иерусалима в его красе, никогда в жизни не видел желанного города. Тот, кто не видел Храма Ирода, никогда в жизни не видел красивого здания.
Вавилонский Талмуд
Если я забуду тебя, Иерусалим, – забудь меня, десница моя; прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего.
Псалом 137
Иерусалим – самый знаменитый из всех городов Востока.
Плиний Старший. Естественная история, 5:15
1. Мир Давида
Первый царь и хананеи
Когда Давид завоевал крепость Сион, Иерусалим уже был древним поселением. Но едва ли его можно было назвать городом: это было всего лишь небольшое укрепление на вершине горы, в краю, носившем в разные времена разные имена – Ханаан, Земля Иудина, Иудея, Израиль, Палестина…
Земля Обетованная евреев, Святая земля христиан – это совсем небольшая территория, зажатая между юго-восточным углом средиземноморского побережья и рекой Иордан и имеющая площадь всего 150 × 240 км[2]. Покрытая пышной растительностью прибрежная равнина представляла собой удобный коридор, по которому торговцы и завоеватели перемещались из Египта в великие империи Передней Азии и обратно. Но городок Иерусалим стоял вдалеке от торного пути, в 50 км от ближайшей точки морского побережья, в уединении суровых скал и каменистых отрогов Иудейских гор, открытый морозным, иногда даже снежным зимам и изнуряющему, знойному летнему солнцу. Впрочем, обрывы суровых холмов обеспечивали хорошую защиту от врага, а внизу в долине бил источник, воды в котором жителям вполне хватало.
Романтический образ города Давида гораздо ярче реальной картины, которую мы можем сложить из немногих достоверных исторических свидетельств. Черепки, жутковатые скальные гробницы, остатки древних стен, надписи на камнях из кладки давно разрушенных царских дворцов и отдельные строки Священного Писания, словно мимолетные всполохи, время от времени озаряют туман доисторического прошлого, и одно такое свидетельство от другого отделяют сотни лет. Очередная находка, словно блуждающий огонек, вдруг озаряет дрожащим светом какую-нибудь случайную деталь исчезнувшей цивилизации, а затем снова наступают годы и столетия мрака, о которых нам совсем ничего неизвестно, и мы можем только фантазировать по поводу того, что же тогда происходило, пока новая случайная вспышка вдруг не высветит новый случайный эпизод. Лишь русла рек и ручьев, горы и долины сохранились с тех пор, но и они изменили свои направления и очертания под действием воды и ветра, геологических процессов и упорного человеческого труда. Но одно нам сегодня более или менее ясно: ко времени царя Давида три фактора – репутация святыни, хорошая защищенность и особенности природного окружения – превратили древний Иерусалим в твердыню, считавшуюся неприступной.
Люди уже жили в этом краю по меньшей мере за пять тысячелетий до новой эры. В самом начале бронзового века, около 3200 года до н. э., когда в месопотамском Уруке уже проживало 40 тыс. человек, а сосед Иерусалима, хорошо укрепленный ханаанский Иерихон считался весьма старинным городом, древние люди, погребавшие своих мертвых в гробницах, вырубленных в склонах иерусалимских холмов, начали строить на одном из них – как раз на том, у подножия которого струился источник, – небольшие квадратные в плане жилища, вероятно, обнесенные стеной. Это поселение было потом заброшено на многие годы, и едва ли Иерусалим вообще был обитаем в эпоху, когда фараоны египетского Древнего царства возводили свои пирамиды и вырубали из глыбы песчаника Великого Сфинкса. Зато в XX веке до н. э., когда на Крите расцветала минойская цивилизация, царь Хаммурапи составлял в Вавилоне свод законов, а бритты отправляли свой культ в Стоунхендже, городок под названием Урсалим был уже хорошо известен. Это название содержится в так называемых “текстах проклятий”[3], обнаруженных при раскопках в Египте, недалеко от Луксора, и, возможно, означает “основанный Салимом” (или Шалемом) – так звали ханаанское божество вечерней звезды.
Поселение на территории Иерусалима развивалось вокруг источника Гихон: жившие здесь хананеи прорубили в скале отверстие, через которое вода из источника поступала в колодец, находившийся в черте крепостных стен. Хорошо укрепленный подземный ход обеспечивал безопасный доступ к воде. Раскопки последнего времени свидетельствуют, что источник был защищен башней в семь метров толщиной и стеной из каменных блоков весом в три тонны каждый. Возможно, башня одновременно служила и святилищем, в котором почитался обожествленный источник. Известно, что в других частях Ханаана цари-жрецы возводили такие же башнеобразные храмы-твердыни. Выше по склону холма археологи обнаружили остатки городской стены – самой древней в Иерусалиме. По-видимому, хананеи так и оставались самыми умелыми строителями в древнейшей истории Иерусалима, пока через две тысячи лет не пробил час Ирода Великого.
Со временем Иерусалим оказался под властью египетских фараонов, захвативших Ханаан в 1485 году до н. э. Египетские гарнизоны стояли в Яффо и Газе. В 1350 году один из правителей Иерусалима в панике умолял своего владыку Эхнатона, египетского фараона Нового царства, прислать ему “хотя бы пятьдесят лучников”, чтобы он мог защитить свои крошечные владения от агрессивных князей-соседей и разбойничьих банд кочевников-хабиру[4], терроризировавших округу. Царек по имени Абди-Хеба называет свой город “столицей земли Иерусалимской, имя которой Бейт-Шульмани” (то есть “дом Благоденствия”).
Абди-Хеба был совершенно ничтожной политической фигуркой в мире, в котором соперничали египтяне (к югу от Ханаана), хетты (к северу от него, на землях современной Турции) и ахейские греки. Первая часть имени царя – западно-семитская. Семиты – это группа народов Ближнего Востока, говоривших на различных, но родственных языках. Родословную семитов возводили к Симу, сыну Ноя. Абди-Хеба мог быть уроженцем любой области на северо-востоке Средиземноморья. Его послание Эхнатону, найденное в архиве фараона[5], выражает панический страх и преисполнено подобострастия. Тем не менее, это первые дошедшие до нас подлинные слова жителя Иерусалима:
“Семь и семь раз припадаю к стопам царя, господина моего. И вот что сотворили Милкиилу и Шувардату против страны господина моего: они взяли воинов от Гезера и пришли… нарушив закон царя. И вот, земли царя оказались в руках хабиру. И вот, город земли Иерусалимской по имени Бет-Ниниб, город царя, господина моего, стал владением людей Киилу. Да послушает царь раба своего Абди-Хебу и да пришлет лучников…”
Нам неизвестно, как отреагировал фараон на это послание. Но чем бы ни закончилась трагическая история осажденного врагами царя, всего столетием позже жители Иерусалима возвели на холме Офель, выше источника Гихон, крутые ступенчатые террасы, сохранившиеся до наших дней, – основание цитадели, или храма Салима. Эти мощные стены, башни и террасы были частью хананейской цитадели, которая известна нам под названием Сион и которую со временем предстояло завоевать Давиду.
Где-то в XIII веке до н. э. Иерусалим перешел под власть иевусеев, еще одной из ханаанских народностей, но в этот период мир древнего Средиземноморья уже захлестывали волны новых захватчиков – загадочных “народов моря”, явившихся, вероятно, с эгейских островов. В буре набегов и миграций тонули целые империи. Пало хеттское царство, в результате неких загадочных событий рухнули Микены, непрерывным потрясениям подвергался Египет – тут-то на исторической сцене и появился народ, называвший себя евреями.
Авраам в Иерусалиме: израильтяне
Над восточным Средиземноморьем сгустились “темные века”, продлившиеся три столетия, и за это время евреи, они же сыны Израиля, – загадочный народ, поклонявшийся Единому Богу, – сумели найти себе место для расселения в тесном Ханаане и впоследствии основали здесь свое царство. История евреев озарена преданиями о сотворении мира, их собственном происхождении и их отношениях с Богом. Эти предания постепенно записывались в священных текстах, которые со временем сложились в Пятикнижие Моисеево – первую часть Танаха, Священного Писания иудеев. Библия стала книгой книг, но это было не какое-то цельное произведение, а пестрое собрание мистических текстов, созданных неизвестными авторами, которые писали и редактировали их в разное время и с разными устремлениями.
Эти священные тексты, творение стольких эпох и стольких умов, иногда описывают исторические факты, достоверность которых подтверждена другими источниками, но также содержат явно неправдоподобные мифы, возвышенную эпическую поэзию, не говоря уже о множестве загадочных, не до конца объяснимых деталей – возможно, это какой-то шифр, а может быть, эти фрагменты просто неправильно поняты, переданы и переведены. Большая часть библейских текстов написана не ради точного изложения событий, а ради передачи высшей истины: описания взаимоотношений народа и его Бога. Для человека верующего Библия является плодом Божественного Откровения. Для историка это противоречивый, ненадежный, содержащий повторы и неясности[6], но при всем том бесценный источник, – зачастую единственное имеющееся в нашем распоряжении описание тех или иных событий. И, наконец, это первая и самая важная биография Иерусалима.
Согласно Книге Бытие, первой книге Библии, родоначальником еврейского народа был Аврам – кочевник родом из месопотамского города Ур, переселившийся в ханаанский город Хеврон, в землю, завещанную ему Господом. Бог дал Авраму новое имя Авраам, что значит “отец множества народов”, и во время своих странствий по Ханаану еврейский праотец получил также благословение Мелхиседека, царя Салима и “священника Бога Всевышнего”. Это первое упоминание Иерусалима в Библии позволяет предположить, что город уже в ту пору был святилищем хананеев и в нем правили цари-священники. Позднее Бог пожелал испытать веру Авраама, повелев тому принести сына, Исаака, в жертву на горе в “земле Мориа”; гора Мориа впоследствии стала называться Храмовой горой.
Хитроумный Иаков, внук Авраама, обманом выманил у своего престарелого слепого отца Исаака благословение первородства в ущерб своему брату Исаву. Но в борьбе с неким таинственным странником искупил свой проступок и получил новое имя, Израиль – “соперник Бога”, “боровшийся с Богом”. Этот момент знаменует собой рождение еврейского народа, последующие отношения которого с Богом были драматичны и мучительны. Двенадцать сыновей Израиля стали прародителями двенадцати колен – двенадцати еврейских племен, со временем переселившихся в Египет.
В преданиях о праотцах так много противоречий и неувязок, что эти истории не поддаются точной исторической датировке, однако через 430 лет, в книге Исход, израильтяне предстают перед нами уже как угнетенные рабы египтян, занятые на строительстве городов фараона. А затем чудесным образом, с Божьей помощью, уходят из Египта (евреи до сих пор отмечают свое избавление от рабства праздником Пасхи), ведомые пророком по имени Моисей. Во время странствий по Синайскому полуострову Бог вручает Моисею Скрижали Завета с десятью заповедями, пообещав евреям Ханаан, Землю обетованную, при условии, что они будут жить, почитая и соблюдая эти заповеди. Но когда Моисей попытался узнать имя Бога, то получил таинственный ответ, исключающий даже возможность дальнейших расспросов: “Аз есмь Сущий”. По-древнееврейски это выражение передается буквами YHWH – Яхве, или, в более позднем искаженном варианте, Иегова[7].
Многим семитам случалось поселиться в Египте; одним из тех фараонов, которые заставляли евреев строить египетские города, был, по-видимому, Рамсес II Великий. Имя Моисей – египетского происхождения, и это позволяет предположить, что еврейский пророк, по меньшей мере, родился в Египте. И нет никаких оснований сомневаться в том, что первый харизматический вождь любой монотеистической религии, будь то Моисей или кто-либо иной, верил в то, что сподобился Божественного Откровения – потому что именно так начинаются все подобные религии. Так что предания семитского народа о спасении от угнетения представляются вполне правдоподобными, пусть даже они плохо поддаются точной датировке.