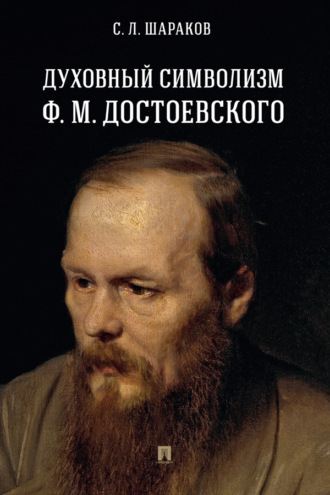
С. Л. Шараков
Духовный символизм Ф. М. Достоевского
В-третьих, сам Достоевский главную идею повести связывал с потребностью веры. Вера является способностью сердца. Изображение сознания в контексте потребности веры указывает на причину его болезни – отсутствие веры у героя.
Таким образом, внутренний мир Подпольного изображается через соотношение двух начал в человеке: в плоскости изначального, природного единства и актуального разрыва ума-сознания и сердца.
Эта перспектива видения человека в «Записках из подполья» приводит нас к святоотеческому богословию молитвы, главная цель которой – соединение ума с сердцем, что означает, в свою очередь, соединение с Богом. После грехопадения все силы души в человеке, в том числе ум и сердце действуют разрозненно. Соединение ума и сердца, по усилиям молитвенного труда и христианской жизни, дается Божественной благодатью.
Начиная с романа «Преступление и наказание», образ человека строится писателем под знаком соотношения ума-сознания и сердца. В последнем романе Дмитрий Карамазов произнесет формулу, выражающую суть внутреннего состояния падшего человека: «Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой» (14; 100). В этом смысле, утверждать, что Достоевский изображает точки зрения, как полагает Бахтин, означает затронуть только часть антропологии писателя.
Отображение человека в перспективе духовного становления, что очевидно из приведенных примеров, не согласуется с тезисом Бахтина, высказанном в полемике с концепцией Б. М. Энгельгардта: ученый не соглашается с тем, что миры и планы романа даны как звенья, этапы диалектического становления единого духа. Отрицая наличие такого духа в произведениях Достоевского, Бахтин отрицает становление духа как таковое: «На самом деле это не так: ни в одном из романов Достоевского нет диалектического становления единого духа, вообще нет становления, нет роста совершенно в той же степени, как их нет и в трагедии…» [Бахтин, 2000, 34] А так как история духовного роста есть судьба, то, закономерно, и судьбу, по убеждению ученого, Достоевский и не изображал: «Не множество судеб и жизней в едином объективном мире в свете единого авторского сознания развертывается в его произведениях, но именно множество равноправных сознаний с их мирами сочетаются здесь, сохраняя свою неслиянность, в единство некоторого события» [Бахтин, 2000, 12].
Но именно судьбы изображает Достоевский. Напомним, какой фразой хотел писать закончить «Преступление и наказание»: «ПОСЛЕДНЯЯ СТРОЧКА: Неисповедимы пути, которыми Бог находит человека» (7; 203). Когда повествование о герое разворачивается в перспективе взаимоотношений с Богом, то это и означает изображение судьбы, что, в свою очередь, влечет за собой изображение духовного становления. Иначе найти «человека в человеке» невозможно, так как стратегия духовного роста заложена в человека и составляет существо жизни души. Душа не может пребывать вне движения: она либо развивается, либо деградирует. Таким видит человека христианство: «Когда же нам сказано возрастайте, то подразумевается человек внутренний и его возрастание в Боге» [Василий Великий, 2008, 446].
В согласии с христианской антропологией герои Достоевского даны, как было сказано, в перспективе духовной динамики, в перспективы судьбы. Духовно возрастают Раскольников и Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании», хроникер и Степан Трофимович в «Бесах», Аркадий Долгоруков в «Подростке», Митя и Алеша Карамазовы, Грушенька, Коля Красоткин, Зосима, «таинственный посетитель» Михаил в «Братьях Карамазовых».
В дальнейшем проблема символического миросозерцания Достоевского будет обсуждаться уже в эмиграции. Здесь следует выделить работы Н. А. Бердяева, К. Мочульского и Г. Мейера.
Как и Розанов, Бердяев пишет о том, что романы Достоевского посвящены исследованию единого человеческого духа: «Романы Достоевского – не настоящие романы, это трагедии, но и трагедии особого рода. Это внутренняя трагедия единой человеческой судьбы, единого человеческого духа, раскрывающегося лишь с разных сторон в различные моменты своего пути» [Бердяев, 1923, 17]. Предмет изображения у Достоевского – духовный мир: «Достоевский пребывает в духовном и оттуда все узнает» [Бердяев, 1923, 19]. Изображение это основано на символе: «Всякое подлинное искусство символично, – оно есть мост между двумя мирами, оно ознаменовывает более глубокую действительность, которая и есть подлинная реальность. Эта реальная действительность может быть художественно выражена лишь в символах, она не может быть непосредственно реально явлена в искусстве. <…>. Искусство Достоевского все – о глубочайшей духовной действительности, о метафизической реальности, оно менее всего занято эмпирическим бытом. <…>. Не реальность эмпирического, внешнего быта, жизненного уклада, не реальность почвенных типов реальны у Достоевского. Реальна у него духовная глубина человека, реальна судьба человеческого духа. Реально отношение человека и Бога, человека и дьявола, реальны у него идеи, которыми живет человек» [Бердяев, 1923, 21–22]. Мыслитель дает формулу символического миросозерцания Достоевского, которая, в сущности, есть формула духовного символизма: «Все внешнее, – город и его особенная атмосфера, комнаты и их уродливая обстановка, трактиры с их вонью и грязью, внешние фабулы романа – все это лишь знаки, символы внутреннего, духовного человеческого мира, лишь отображения внутренней человеческой судьбы. <…>. Грязные трактиры, в которых «русские мальчики» ведут разговоры о мировых вопросах, лишь символически отображенные моменты человеческого духа…» [Бердяев, 1923, 37]
Но духовного символизма у Бердяева не получается, так как то, что он называет духовной глубиной человека, оказывается по факту философско-религиозным конструктом, заимствованным философом у Я. Беме. В соответствии с бемевской концепцией борьба в человеке добра и зла есть отображение борьбы добра и зла в божестве. Причем, зло видится соприродным Богу. Вот что пишет Бердяев: «Бог и дьявол борются в самых глубинах человеческого духа. Зло имеет глубинную духовную природу. Поле битвы Бога и дьявола очень глубоко заложено в человеческой природе. <…>. Если бы Достоевский раскрыл до конца учение о Боге, об Абсолютном, то он принужден был бы признать полярность самой божественной природы, темную природу, бездну в Боге, что-то родственное учению Якова Беме об Ungrundʼе. Человеческое сердце полярно в самой своей первооснове, но сердце человеческое заложено в бездонной глубине бытия» [Бердяев, 1923, 55].
Человек как отображение теогонического становления – вот концепция Беме, принятая Бердяевым. Соответственно, основными понятиями, в которых описывается духовная глубина человека – это понятия свободы, красоты, духовной динамики, раздвоения и поляризации. Подобное понимание человека очень далеко от святоотеческой антропологии, что Бердяев и подтверждает: «Явление Достоевского есть совершенно новый момент в антропологическом сознании. Это сознание уже не только традиционно христианское, не святоотеческое…» [Бердяев, 1923, 58] Но, представляется, это высказывание более говорит о его авторе, нежели о Достоевском.
Появление нового типа символики в романе «Преступление и наказание» был отмечено К. Мочульским: «Мир Достоевского вырастал медленно в течение двадцати лет – от «Бедных людей» до «Преступления и наказания». Только в этом романе он сложился окончательно, как особая духовная реальность. <…> В мире Достоевского место и обстановка мистически связаны с действующими лицами. Это – не нейтральное пространство, а духовные символы» [Мочульский, 1947, 361–362]. «Мир природный и вещный не имеет у Достоевского самостоятельного существования; он до конца очеловечен и одухотворен. Обстановка всегда показана в преломлении сознания, как его функция. Комната, где живет человек, есть ландшафт его души» [Мочульский, 1947, 363].
Мир внешний – это некоторая проекция мира внутреннего. Только как понимать эту проекцию? Выражение «комната – ландшафт души» может вызывать различные историко-культурные образы. Это можно понимать в пределах христианского духовного символизма, а можно и иначе. На книге Мочульского, к слову, сказывается влияние софиологии Вл. Соловьева, так что указанную проекцию можно понимать вполне в гностическом духе, когда мир воспринимается как «объективация субъективных переживаний» Софии, преломленных в мышлении человека [Лосев, 2000, 384].
Особого внимания требует книга Георгия Мейера «Свет в ночи (о «Преступлении и наказании»). Опыт медленного чтения», опубликованная в 1967 году. Автор утверждает, что Достоевский изображает тайны человеческого духа: «Реалистический роман изображает земной трехмерный мир людских характеров и природы, тогда как романы Достоевского никого и ничего не изображают, а раскрывают тайны человеческого духа и, познавая их, касаются миров иных» [Мейер, 1967, 17]. Духовную реальность Достоевский изображает символически: «… ничего внешнего у Достоевского не имеется, и все, что по первому взгляду кажется таковым, есть на самом деле, инобытие духовных сущностей, их символика, их отражение вовне. Вещи суть вехи, расставленные на жизненных путях и указующие нам направления, избранные нашей внутренней волей» [Мейер, 1967, 102].
В сущности, Мейер определяет символическое миросозерцание Достоевского как духовный символизм. В книге можно найти примеры символического истолкования сюжетов, образов и других художественных элементов «Преступления и наказания» в направлении того типа символики, который мы называем духовным символизмом. Так прочитывается эпизод, когда Раскольников, встретив Лизавету, узнает, что в определенные день и время Алена Ивановна будет дома одна. И это знание герой получает непосредственно сразу после молитвы к Богу с просьбой избавить его от наваждения преступных помыслов. Исследователь связывает данный эпизод, романное событие с состоянием внутреннего мира Раскольникова: «Здесь, в переходе от глубочайшего изумления к ужасу, мистическому ужасу перед воровски подслушанным роковым известием, выражается подспудное знание Раскольникова о происходящей в его душе борьбе ангельских и демонских сил. Это отражение на поверхности того, что не доходит до рассудка, но безошибочно ведомо внутреннему «я» Раскольникова: его глубина знает, ареной борьбы кого и с кем она сейчас была. Но темные замыслы, взращенные в уединении гордыней, успели укрепиться в его сердце, и черт уже влечет свою жертву к злодеянию» [Мейер, 1967, 32].
Но в целом Мейеру не удается удержаться на уровне духовного символизма, и большинство толкований романных символов сводится к тому типу символики, который мы называем естественным символизмом. Причина такого смешения типов символики коренится, на наш взгляд, в теоретических установках исследователя, которые восходят к античным и ренессансным представлениям о бытии, о поэтическом творчестве, о языке и символе. Это и идея о том, что мысль художника совпадает с наиглубочайшими бытийственными процессами и становится их живым прообразом. Это и вытекающая из первой идея о параллелизме церковного и художественного пути к обретению духовного видения: «Такая возможность дарована Творцом только церковному культу, неразрывно сращенному с религиозным обрядом и высшим духовным стадиям художественного творчества» [Мейер, 1967, 17]. Это и выведенное из каббалистики представление о художественном тексте как об организме, в котором нет ничего случайного, и что, в свою очередь предполагает тотальный символизм каждой малейшей детали: «Проникнутое мыслью художественное творение – живой духовный организм – через любую его деталь постигается в целом. Так, по одному костному суставу может ученый, не боясь ошибиться, мысленно восстановить все кости животного, жившего миллионы лет назад и вообразить его в плоти» [Мейер, 1967, 18].
Тезис о знании мира духовного через вещи мира земного (из возведения которого в норму и рождается естественный символизм), становится главным тезисом герменевтических подходов Мейера: «Но никакие психологические толкования не удовлетворили бы Достоевского, полагавшего, что можно, идя и обратным путем, от окружающей нас наружной обстановки, от отражения к сущному, постигать то или иное духовное состояние человека. Так, кабинка, каморка, клетушка, в которой проживал Раскольников, всего лишь фотография его духовно уже отпылавшего и прогоревшего восстания на Бога» [Мейер, 1967, 28]. Совершенно последовательно проводится мысль, выраженная еще ап. Павлом, о том, что знание невидимого через видимое открыто и естественному разуму, естественным способностям человека: «Проходя в ежедневной жизни через величайшие сомнения, он (Достоевский. – С.Ш.), как художник, как творец только то и делал, что обличал существование ада и рая и непрестанное общение с ними человеческой души, проходящей через земной опыт. Достигал он этого не столько непосредственной верой в Бога, слишком часто в нем искушаемой, сколько художественной интуицией, идя, как подобает истинному художнику, путем Прометея, похищая небесную искру» [Мейер, 1967, 30].
Естественный символизм как плод познавательной практики с опорой на естественные способности человека, приемлем для христианства в качестве начального знания о духовном, но не приемлем в качестве знания нормативного. Признание естественного символизма в качестве нормы, как показал опыт философов и поэтов античности, привело, в свою очередь, к пониманию воображения как нормы познавательного процесса. В соответствии с таким представлением, Мейер видит в познавательной практике Достоевского не действие веры, а интуиции/угадывания, что и требует воображения. Вход в духовный мир, основанный на интуиции/воображении неизбежно приводит к тому, что духовное начинает пониматься по аналогии с вещественным. Так и появляется опыт овеществления духовного, их смешения.
Подобное смешение наблюдается и у Мейера. Его видение романных образов Достоевского опирается на следующий постулат: «Достоевский как художник вырастает органически из жизни живой, воспринимаемой им одновременно в трех, как бы сквозных планах: в явном земном, в небесном ангельском и, наконец, в мытарственном инфернальном. Эти три плана, пребывая в непрестанному взаимообщении, взаимовлиянии, представляют собой не умозрительные категории, не безответственную фантастику немецкого писателя Гофмана, а некий трехчленный вселенский процесс, всеохватное, трояко отраженное, духовно-телесное брожение, высшую реальность, сверхъявное бытие, выразителем которого, по праву, считал себя автор «Преступления и наказания» [Мейер, 1967, 26–27].
Данное высказывание можно понимать и в согласии с христианским вероучением, и в соответствии с античными представлениями. С одной стороны, в сердце человека входят и естественные, земные, желания, и помыслы от ангелов, и помыслы от сил зла. Это вполне христианское понимание. Но как только постижение мира невидимого предполагается не на путях исполнения Евангелия, а на путях представления этого мира как некой структуры со своими внутренними законами, тогда и возникает представление о соединении структур планов бытия в некий трехчленный вселенский процесс. Человек при этом, что неизбежно, начинает пониматься как символ, выражающий этот процесс. Другими словами, неизбежно начинает воспроизводиться тип античной символики, когда земное начинает отображать небесное.
Примеров естественного символизма в книге Мейера множество. Приведем некоторые из них.
«Все наши встречи и столкновения, все пересечения трепетных людских существований не что иное, как религиозный вселенский процесс, равно положительный и отрицательный» [Мейер, 1967, 42]. Настасья и мать Раскольникова – символы матери-земли [Мейер, 1967, 47; 134]. Миколка – символ поступков бессознательной Лизаветы [Мейер, 1967, 81]. Убийство Лизаветы – символ распинания Христа [Мейер, 1967, 66].
Такой символизм, что принципиально, часто оказывается избыточным. Вот, например, как истолковывается топор под мышкой Раскольникова: «Петля, с прикрепленным к ней топором, находилась, как мы уже знаем, с внутренней стороны пальто и, следовательно, орудие преступления прижималось к сердцу преступника. Таким образом символизировалось – отразилось вовне – содружество Раскольникова с силами преисподней» [Мейер, 1967, 58]. Очевидно, что символический смысл топора у сердца героя является избыточным, так как содружество Раскольникова с преисподней в этот момент выражено словами героя по поводу обнаруженного им топора – «не рассудок, так бес!» (6; 60)
Из современной научной литературы о проблеме символического миросозерцания Достоевского, на наш взгляд, выделяются книга болгарского ученого Николая Нейчева «Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского», а также работы Т. А. Касаткиной и К. А. Степаняна.
Н. Нейчев говорит об особенности антропологии Достоевского – интересе писателя к «внутреннему человеку» [Нейчев, 2010, 55]. Под внутренним человеком здесь понимается образ Божий, что связывает поэтику Достоевского с православной иконографией: «Именно попытка показать Божественный образ в человеке связывает поэтику Достоевского с фундаментальными принципами ортодоксальной иконографии» [Нейчев, 2010, 42].
Уже приведенная цитата позволяет говорить о том, что ученый весьма слабо представляет святоотеческое понимание внутреннего человека. Это касается не только конкретного вопроса. На страницах исследования говорится о крайностях дихотомического и трихотомического понимания человека у Св. Отцов [Нейчев, 2010, 58–59], что не соответствует святоотеческому богословию. Говоря о соотношении внутреннего и внешнего человека, исследователь развивает мысль о соотношении телесной оболочки с духовным содержанием: «Основные характеристики человеческого существа определяются связью материального и духовного. Эти две субстанции составляют внешнюю и внутреннюю его архитектонику и описывают, соответственно, сферы «внешнего» «внутреннего» человека. Сложные взаимодействия между телесной оболочкой и духовным содержанием, приведенные в диалектическое отношение, снимают опасность разграничения этих двух областей, что, однако, не означает потерю их автономности. В ортодоксальном христианстве они несут разную оценочную нагрузку, но мнение, что существует резкое ценностное противопоставление между телесным и духовным, ошибочно» [Нейчев, 2010, 55].
И здесь стоит напомнить, что еще у ап. Павла различение внутреннего и внешнего человека, различения духа и плоти, это менее всего различения души и тела (доминирование такого представления характерно для платонизма и его изводов), а есть различение духовной жизни (по воле Бога) и жизни плотской (по воле человека). И только закономерно, что внутренний человек понимается Нейчевым структурно, то есть в духе естественного символизма. Вот характерный пассаж на эту тему: «Богоискательский поход Достоевского раскрывает невиданную глубину души там, где ее дух проторивает дорогу к лону святая святых. По своей сути это акт, реконструирующий вертикальную небесную иерархию, однако уже не во вселенной, а в самом человеке. Этим же преодолевается духовная слепота человека, и он способен снова ощутить присутствие (как в Средние века) небесных сфер над собой. Только в раскрытой таким образом глубине душа может осуществить полноценный и окончательный контакт Бога с его отражением в своей богоподобной сущности» [Нейчев, 2010, 61].
Желание увидеть духовный мир структурно приводит ученого к тому, что святоотеческий образ человека как храма Божьего, он также понимает структурно: «… духовная аскетика обнаруживает и описывает во внутренних пространствах души человека невидимый храм, аналогичный видимому архитектурному образу храма. И так же, как внешний храм символизирует физическую аскезу, внутренний храм является эманацией духовной аскезы» [Нейчев, 2010, 84]. Более того, эти два храма являются «субстанциально изоморфными» [Нейчев, 2010, 104].
Соответственно, Нейчев находит храмовую символику у Достоевского. В результате исследования храмовой символики в творчестве Достоевского появляются такие констатации: «Можно сказать, что у Достоевского речь идет именно о сооружении такого незримого храма» [Нейчев, 2010, 93]. Ключевые для поэтики позднего Достоевского слова – вера, покаяние, смирение, – через которые и выражается духовный символизм, получают в «Таинственной поэтике» вполне структурное значение: «Со своей стороны, пятичастность как агиографической литературы, так и архитектуры храма отражает пять основных экзистенциальных состояний человека, восходящих к церковным таинствам: крещение, миропомазание, покаяние, евхаристия, брак, священство и елеосвящение. Хотя их семь, но они по своей сути объединены в пять духовных топосов» [Нейчев, 2010, 194]. Структурное мировидение последовательно переносится на романы Достоевского: «Иными словами, если крестово-купольная архитектоника храма является метафизическим первообразом романной структуры Достоевского, то в этих романах должны найти отражение архитектонические принципы, которым подчиняется сам образ храма» [Нейчев, 2010, 139]. В конкретике исследования такой подход сосредотачивает внимание, например, на золотом сечении в романе «Идиот» [Нейчев, 2010, 141]. Все это само по себе интересно, только, при чтении книги Нейчева, возникает вопрос: какое это отношение имеет к внутреннему человеку?
На наш взгляд, исследование болгарского ученого являет собой крайний случай структурного символизма. Оно интересно прежде всего тем, что помогает лучше понять и оценить все достоинства и недостатки структурного прочтения символики Достоевского.
Большое внимание символизму Достоевского уделяется в работах Т. А. Касаткиной. В монографии «О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве Ф. М. Достоевского как основа «реализма в высшем смысле»» ученая обращает внимание на то, какое значение в творчестве Достоевского имеет Священная история: «Священная история не повторяется, но со-творяется вечно, и ее присутствие во времени ощутимо и в основном тексте романов Достоевского. Для Достоевского характерен иной ход (не повторение!), иное движение истории и метаистории, постоянное присутствие метаистории в истории, постоянное проявление, проступание евангельских первообразов в исторических «образах» человеческой повседневности, нисхождение вечности во время» [Касаткина, 2015, 307–308].
Как полагает Касаткина, образы становятся у Достоевского образа́ми [Касаткина, 2015, 224]. То есть писатель не только изображал словесные иконы, но и мыслил иконично.
Так, она утверждает, что в эпилогах своих пяти романов писатель рисует словесные иконы [Касаткина, 2004, 224].
То, что в книге «О творящей природе слова» было тенденцией, в недавно изданной книге «Священное в повседневном: двусоставный образ в произведениях Ф. М. Достоевского» (2015 г.) становится доминантной научного подхода к изучению символической образности писателя. Ученая выдвигает и обосновывает новое понятие – двусоставный образ: «Двусоставный образ выполняет две функции: он являет нам сущностный смысл текущих событий, позволяет увидеть вечное во временном, но, одновременно, он снимает патину с первообразов, явленных нам в евангельской истории, он вынуждает нас столкнуться лицом к лицу с реальностью того, что утратило для нас резкость и непосредственность восприятия от многочисленных повторений. Он представляет нам первообраз как образ окружающей нас действительности» [Касаткина, 2015, 21].
Особую роль в двусоставном образе играет вещь: «… это построение вещи изнутри, то, что я назвала двусоставностью образа, есть неотменимое свойство европейской христианской культуры. Вещь в ней никогда не равна только себе, не ограничена сама собой. Вещь здесь – это место, где является Бог. Бог говорит с человеком вещами этого мира. Вещь потому и «строится изнутри», что ее задание быть словом – первоначально, что сначала является «внутренний образ», то, что хочет сказать Господь, то, что приходит из-за пределов мироздания, и потом этот «внутренний образ», то, что можно назвать душою вещи, выстраивает для себя адекватный внешний образ – саму вещь» [Касаткина, 2015, 71–72].
Напомним, Мейер утверждал, что вещь выражает содержание внутреннего человека. Для Касаткиной вещь – это слова Бога к человеку. Тем самым, здесь мы встречаем то, что в пределах нашего исследования мы называем естественным символизмом. Все эти представления, сами по себе, не противоречат христианскому пониманию мира вещественного, хотя у них может быть и иной богословско-философский контекст, например, гностический, либо оккультный. Иной контекст начинает появляется тогда, когда опознание в вещах мира слова Бога, в видимом – невидимого, начинает восприниматься и оцениваться, как мы уже сказали, в качестве нормы, то есть когда естественный символизм видится чем-то достаточным, обеспечивающим полноту познания.
Как уже отмечалось, познание невидимого посредством видимого с опорой на естественный разум, в святоотеческом богословии понимается как часть знания о тварном мире. Более глубокое и точное знание рождается тогда, когда, по слову св. Максима Исповедника, видимое начинает познаваться через невидимое, то есть когда ум человека преображается причастностью к благодати Божией, к божественным энергиям. Но в недрах западного христианства, изначально православного, исторически формируется католическая духовность, для которой естественный символизм, основанный на естественном разуме начинает восприниматься как норма. Католические мистики и святые видят встречу со Христом не в благодатных божественных энергиях, как это понимается на православном Востоке, а со Христом до Его Воскресения, со Христом во плоти. Тем самым, католическая мистика с ее направленностью на встречу со Христом в рабьем зраке противоречит словам апостола Павла о том, что христиане после Воскресения не знают Христа по плоти (Коринф. 5: 16). Установка мистики западного христианства на встречу со Христом до Его Воскресения, Христом евангельских событий, предполагает чувственное видение Христа, Богородицы, апостолов – чувственное видение духовного мира в целом, что, в свою очередь, требует зримого образа, картинки.
Визуальность является ключевым словом в книге «Священное в повседневном». Касаткина утверждает, что Достоевский был ярко выраженным визуалом [Касаткина, 2015, 5]. Тем самым, исследовательница читает Достоевского в согласии с началами западной христианской культуры и усматривает за вещами, сюжетами, образами произведений писателя пространство евангельской истории в стиле естественного символизма.
Приведем показательный пример из многочисленных символических истолкований в книге «Священное в повседневном» – это сцена из «Братьев Карамазовых», когда Лиза рассказывает Алеше о том, как она прочитала о распятии жидами христианского мальчика, и что она, Лиза, по этому поводу чувствует и думает: «За распятие младенца отчетливо встает распятие Христово, причем Достоевский настойчиво прорисовывает его, используя неправильность и неопределенность разговорного языка. <…>. Слова: «Вот у меня одна книга», произносимые Лизой, странны потому, что с очевидностью (здесь и далее курсивом выделено Касаткиной. – С.Ш.) тексты, подобные тем, на который она ссылается, печатались, конечно, в периодике, <…>. «Одна книга», конечно, отсылает к единственной Книге христианской культуры – Библии. Слова: «<…> читала про какой-то суд, и что жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене…» – звучат так, словно «жид» распинает мальчика по приговору суда, что конечно напоминает нам сразу и о евангельских событиях и о вечно возобновляющемся в истории обвинении: «Жиды Христа распяли!» При этом слова «какой-то» и «где-то» относят событие в область временной и пространственной неопределенности, как бы выводя его за пределы текущего времени <…>. «Пальчики обрезал» – во-первых, воспроизводят структуру (выделено мной. – С.Ш.) евангельских Страстей, где мучение и надругательство предшествуют Распятию, а во-вторых, связывают эпизод с романным целым, где отрезание (капитан Снегирев), укушение (Илюшей Алеше), защемление (Лиза) пальцев становятся знаками мучительства и самомучительства по преимуществу – но так же и знаками расплаты, мести, наказания – как мучения Христовы, осознающиеся как расплата за грехи человечества» [Касаткина, 2015, 22–23].
Итак, за описанным эпизодом распятия христианского мальчика ученая видит, во-первых, картину распятия Христа, во-вторых, структуру евангельских Страстей (смысл совершающегося). Это и есть структурный символизм, когда предполагается две реальности, одна из которых (несовершенная земная) отражает другую (совершенную небесную). Такой тип символики, как уже говорилось, был развит в античном платонизме. Касаткина понимает опасность такого уклона и пытается отделить описываемый ею символизм Достоевского от символизма античного: «Обращение к искусству, имеющему дело со зримым образом, позволяет нам легко констатировать еще нечто существенное для того, чтобы в образе возникла глубина. Два плана должны соединиться не пределах одной сцены, что порождает скорее аллегоричность, а это свойство в нашем представлении тоже оказывается противопоставлено глубине (именно так взаимодействуют боги и герои гомеровского эпоса, как это описывает Ауэрбах и как это можно видеть на аллегорических полотнах на мифологические сюжеты). Два плана должны наложиться один на другой так, чтобы внутреннее не существовало нигде, кроме как во внешнем <…>, образ должен начать являть иное, иное должно начать проступать и преобразовывать образ, порождая в нем смысл, не могущий быть заключенным в очевидно явленном» [Касаткина, 2015, 65]. Ученая, как следует из цитаты, решает проблему в направлении, предложенном в свое время Аристотелем, который, напомним, утверждал, что идеального мира как такового, идеи вне вещи, не существует. Касаткина проделывает то же в отношении художественного образа: внутреннего плана образа, который есть евангельская история, самого по себе, вне образа, нет. Тогда, предполагается, соблазна аллегорического параллелизма и, добавим от себя, проецирования одной реальности на другую, можно избежать. Подобное решение вопроса можно назвать структурным, так как мысль исследователя вращается вокруг структуры изучаемого предмета, которую можно понимать более или менее правильно. Другими словами, претендуя на раскрытие духовного смысла (сущностный смысл текущих событий) художественного образа у Достоевского, Касаткина остается на уровне структурного символизма, в то время как познание духовного мира требует не чувственного восприятия картинки, а духовного познания на пути покаяния, смирения и веры, то есть предполагает символизм духовный.


