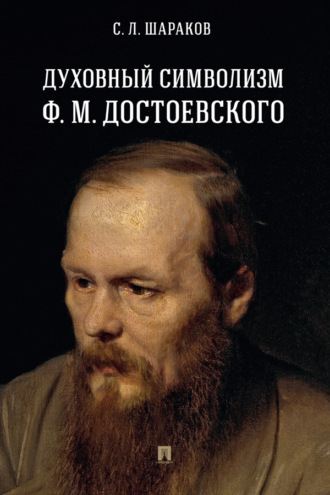
С. Л. Шараков
Духовный символизм Ф. М. Достоевского
В «Божественной комедии» мы также встречаем соответствие каждому из загробных миров определенному времени суток. На этот счет есть интересное исследование М. Л. Андреева, в котором установлено, что аду соответствует ночь, но схождение в него начинается вечером Страстной пятницы [Андреев, 2008, 46–47]. Чистилище связано с утром [Андреев, 2008, 51]. В раю царит полдень [Андреев, 2008, 54].
Таким образом, загробные миры в «Комедии» соотносятся с временем суток, с «тройным делением вещей» и «тройной субстанции во Христе», предложенными Бонавентурой. Насколько далека эта схема от христианского пути спасения, начертанного в святоотеческих писаниях, достаточно сравнить «ступени» Бонавентуры с «Лествицей» св. Иоанна Лествичника: если у западного мистика в качестве доминанты мы находим стратегию выявления иерархических структур мира, человека, Богочеловека и их соответствий, то каждая ступень восхождения к Богу у св. Иоанна указывает на условия и средства исполнения той или иной заповеди, содержит описание либо страстей и средств борьбы с ними, либо добродетелей и средств их достижения. Что для православного пути является повторением пути Спасителя? Смирение, кротость, терпение, любовь, исполнение заповедей – воли Бога. Что для католиков есть повторение пути Господа? Смерть – воскресение – вознесение. Что это? Последовательность событий, их схема. Вот как описывает очищенную душу Бонавентура: «Тогда наш дух будет иерархичным, то есть очищенным, озаренным и совершенным. Итак, он будет подобен девятой ступени небесных чинов, и внутри его будут в порядке расположены следующие функции: возвещение, наставление, ведение, упорядочение, укрепление, повелевание, поддерживание, откровение, помазание, градация которых соответствует девяти ангельским чинам» [Бонавентура, 1993, 115].
Стратегия соответствий выводит мысль за пределы христианского миросозерцания в область античной философии, в которой структурное соответствие мира богов и мира людей является главенствующей мыслительной практикой. И с этой точки зрения, путешествие Данте по загробным мирам, описанное в категориях христианского богословия, по существу своему, воспроизводит античные мифы о космических странствиях души, в частности, с «космической одиссеей души» в мифах Платона, в которых хорошо прослеживается вертикаль, где абсолютным низом будет бездна Тартара, серединой – земля, верхом – «занебесная» область [Григорьева, 1989, 127].
Конечно, различие религиозного содержания существенно сказывается на представлениях Платона и Данте о соотношении внеземных миров и человеческой души, но одно остается низменным – структурное соответствие различных элементов бытия. Только у Платона это соответствие касается мира богов и мира людей: «Вместе с тем космос – живое существо, и ему присуща душа, структура частей которой аналогична устройству отдельной души» [Григорьева, 1989, 128]. У Данте речь идет о структурной идентичности мира, человека и Богочеловека. Правда этим дело не ограничивается: соотнесенность достигает не только подробностей личной биографии или историософской всеохватности, но вторгается даже и в область астрологии. «Например, странствие героев «Комедии» имеет смысловое и географическое соответствие с паломничеством. Но его можно сопоставить и с движениями небесных тел, и с основными этапами мировой истории. Очевидно и соответствие определенных моментов биографии Данте и узловых событий сюжета» [Доброхотов, 1963, 91].
Здесь, правда, стоит оговориться, что само по себе внимание к структурному соответствию нельзя приписывать исключительно к античной культуре – в христианском богословии мы найдем сколь угодно структурных сопряжений мира и человека, Бога и человека. Но как только возникает идея о том, что одна сфера воспроизводит события и отношения другой сферы, так сразу же начинают воспроизводиться мыслительные и художественные концепции античности.
Это справедливо и в отношении к поэтике «Божественной комедии», где душа героя изменяется не в результате духовных усилий в труде исполнения заповедей, а в результате перемещения из одной сферы загробного мира в другую. На отношение неизменной вечности и изменяющегося человека у Данте указывает Доброхотов: «При чтении «Комедии» ее герой воспринимается как постоянная составляющая действия, а ландшафты и события – как переменная. Но если воспользоваться подсказками Данте и обратить внимание на изменения в духовном облике героя, то переменной станет он сам, а постоянной – три мира, в которых герой побывал. Эволюция «я», скрытая динамикой сюжета, – показательный пример персонализма эпохи» [Доброхотов, 1963, 191].
Исследователь верно говорит о персонализме эпохи: константы художественного мира «Комедии» нельзя свести к античному представлению об отражении небесного в земном. Античная структурная соотнесенность космических миров перестраивается у Данте в категориях христианского откровения абсолютной Личности, образом Которой является личность человеческая. На первый взгляд, история души в «Комедии» отображена по законам христианского духовного символизма, что дает повод исследователю М. Л. Андрееву сближать произведение Данте с «Исповедью» Августина: «Средневековье, открывшееся «Исповедью» Августина, знает, что такое история души, это единственный вид истории, в котором оно исторично. Эта история в «Божественной комедии» развернута вовне, путь к истине и к самому себе Данте-персонаж преодолевает в ходе познания мира и человека, явленных ему в образе трех загробных царств и их вечных насельников» [Андреев, 2008, 38].
Но и ортодоксального христианства с его представлениями о том, что Иисус Христос является центром бытия, у Данте не получается, так как его символизм выстроен по принципу порождающей модели. Только роль порождающего принципа отводится не умным сущностям, как это было в античности, а человеческой личности. И если в отношении нравственности константой в «Комедии» выступает мир вечности, то в плоскости хронотопа происходит онтологическая инверсия, и уже человек оказывается константой, порождающей моделью, а мир вечности – переменной. В смысловой ряд (временная длительность природного и социального планов), скрепляющий земные времена, «Данте метафорически вовлекает и три загробных царства: метафорой ада становится ночь, чистилища – утро, рая – день. Раз включившись в этот ряд и соприкоснувшись с временными понятиями, метафора расширяется, захватывая и остальные его звенья, доходя до его основной модели – человеческой жизни, которая в своей смысловой расчлененности также может быть наложена на царства вечности. Такой способ художественного описания вечности приводит к тому, что снимается принципиальная граница между временем и его противоположностью, размывается абсолютная трансцендентность царств вечности по отношению к земному миру и их абсолютная внеположность друг другу» [Андреев, 2008, 58].
Андреев пишет о «размытости» границ между временем и вечностью у Данте, но, представляется, правильным будет говорить о том, что в «Комедии» отображен не опыт соприкосновения с вечностью, с духовным миром, так как вечность здесь – проекция истории души. То есть, в образотворчестве Данте мы встречаем такой тип отображения Божественного, который станет главенствующим в эпоху Возрождения: «Художник Ренессанса, как неоплатоник, знает все мифологические и символические глубины своих библейских сюжетов, но ему важно выявить чисто человеческую личность и показать, что все символико-мифологические глубины библейского сюжета вполне доступны всякому человеку, вполне соизмеримы с его человеческим сознанием и в познавательном отношении вполне имманентны этому сознанию, в какие бы бездны бытия они не уходили» [Лосев, 1998, 397].
Таким образом, в произведении Данте мы находим, в существе своем, античный тип символизма, когда духовное оказывается просто обобщением, пределом земного. Материал на эту тему мы находим в замечательном исследовании немецкого филолога Ауэрбаха с красноречивым названием «Данте – поэт земного мира». Ученый обращает внимание на тот факт, что вечность в «Комедии» суть проекция земного мира и описывается в горизонте видения естественного разума, а загробная участь персонажей произведения являет собой предельное развитие их сущности. [Ауэрбах, 2004, 141].
Смешение христианского и языческого в «Комедии» породило и мыслительную стратегию «двоения» в понимании назначения художника. С одной стороны, Данте ориентировался на образ христианского книжника как свидетеля истины, с другой стороны, в художественном сознании Алигьери оживает аристотелевское учение о поэтическом вымысле. О соотношении истины и вымысла в «Комедии» убедительно пишет Андреев: «… в «Божественной комедии» апория правды и лжи стала предметом художественного изображения, пожалуй, впервые. И она не только изображена, она разрешена, поскольку здесь одновременно и на равных правах присутствуют две, казалось бы, несовместимые поэтики – поэтика истины и поэтика вымысла, поскольку «Божественную комедию» совместно творят поэт и писец. Корни одной из этих поэтик уходят к библейско-христианскому представлению о «словесности», корни другой – к античному представлению о «литературе» [Андреев, 2008, 29–30]. Писец – это христианский писатель, передающий слово Бога человеку, в пределе – автор Св. Писания; поэт – тот, кто творит вымысел, тот, кто «подражает всеобщему». Как показывает исследователь, писец – маска поэта, призванная придать статус истинности, буквального смысла изображению загробного мира, в то время как по существу дела описание вечности в «Комедии» есть плод вымысла [Андреев, 2008, 27–29].
Смешение истины и вымысла подразумевает и смешение святого, обоженного и естественного, что на художественном уровне дает сознание, в горизонте которого уравновешиваются, сближаются до неразличимости пути духовно-нравственного совершенства, святости и художественного творчества [Жильсон, 2010, 90–91].
Таким образом, как это вытекает из вышеизложенного, и в католическом богословии, и в католической мистике, и в художественном творчестве опора на естественный разум привела к воспроизведению античных концепций ума, религиозного и художественного творчества, что и породило тип образотворчества и символизма, для которого характерно смешение христианского и языческих миросозерцаний.
Мы так подробно остановились на творчестве Данте потому, что в нем были заложены поэтологические идеи, принципы образотворчества и символизации, которые станут образцовыми на многие века европейской художественной литературы. На это, в свое время, проницательно указал немецкий философ романтического направления Ф. Шеллинг в работе «О Данте в философском отношении». Мыслитель утверждает, что Данте стал «первосвященником» в «святая святых», где «Поэзия и Вера сочетались» и дал «целый род поэзии нового времени» [Шеллинг, 1996, 445].
Закон новой поэзии заключается в следующем: «… индивидуум должен свести к единому целому раскрытую перед ним часть мира и создать себе свою мифологию из материала своего времени, его истории и науки» [Шеллинг, 1996, 447]. Если в античности исходной точкой было всеобщее, и всякое особенное виделось как его проекция, то в новое время такой точкой является индивидуальное, которое должно достичь всеобщности.
Эта тема поиска индивидуумом абсолютного, совершенства в лишенном актуальной полноты земном бытии станет доминирующей в эпоху Возрождения. Но пути достижения были разные. С развитием науки, полагающей свои основания на математической достоверности и развивающей методологический принципы, образно-символическое мышление утрачивает свое доминирующее положение и остается востребованным преимущественно в оккультных науках позднего Средневековья и Возрождения – астрологии, каббале, алхимии и связанных с ними течениях религиозной мистики. В оккультном мировидении в целом сохраняется античное понимание символа как порождающей модели, но меняется представление о содержании и характере порождения. Если в античности преобладал, как уже говорилось, структурный символизм, согласно которому соответствие миров виделось на структурном уровне, то в оккультизме, в связи с учетом христианского опыта абсолютного личностного бытия, складывается символизм органический, когда соотношение земного и небесного, человеческого о Божественного видится в категориях органического мира – как биологический процесс. Наиболее ярко это направление символического мышления проявляется в каббале и алхимии, но затрагивает и ведущую свое начало из глубокой древности астрологию.
Значительное место стиль ренессансной, в частности, органической символики занимает в каббалистике. Здесь также усваивается древнее представление о порождении мира дольнего миром горним [Синило, 2012, 357].
Но в отличие от античности, в каббале оживает древняя магическая идея о взаимовлиянии миров: как высший влияет на низший, так и низший на высший. А посредником между мирами является человек [Синило, 2012, 288]. Более того, предназначение человека заключается в том, чтобы восстановить целостность Божественного бытия, нарушенную в результате грехопадения [Синило, 2012, 380]. Согрешил человек, но повреждена была внутренняя жизнь Божества. Такое представление складывается в каббалистике под влиянием идей гностицизма о мире как божественной эманации. Причем, эта эманация представляется органически, как акт говорения: «Язык в чистейшей форме, то есть язык иврит, по мнению каббалистов, отражает фундаментальную духовную природу мира. Иным словами, он обладает мистической ценностью. Речь доходит до Бога, потому что она исходит от Бога. В человеческой речи, которая <…> носит исключительно познавательный характер, отражается созидательный язык Бога. Все творение – и это важный принцип большинства каббалистов – для Бога есть лишь выражение Его сокрытой сущности, начало и конец которой заключается в наречении Себя Самого Именем, святым Именем Бога. Это вечный акт творения» [Синило, 2012, 51].
Г. В. Синило, цитируя Шолема, указывает на органический и языковой символизм каббалы: «Помимо символики организма (выделено мной. – С.Ш.) автор Зогара виртуозно использует символику языка, парадоксально соединяя ее с символикой прорастания и оплодотворения» [Синило, 2012, 353–354].
И это не было только метафорой. Как замечает мистик XIII века Й. Латиф, «все Имена и атрибуты суть метафоры для нас, но не для Него» [цит. по Синило, 2012, 290]. Более того, считалось, что человеческие поступки, в частности, супружеские отношения, способны влиять на жизнь божества. Истинное супружество мыслится как «проекция и отражение великой мистической связи мужского и женского начал в Самом Божестве» [Синило, 2012, 348].
Но наиболее ярко органический символизм выразился в алхимии. В книге В. Л. Рабиновича «Алхимия как феномен средневековой культуры» раскрывается характер алхимической символизации: «Алхимический космос – живой космос. Да и каждый фрагмент этого космоса – тоже живой. Он и часть организма, и самостоятельный организм. Одушевленный, одухотворенный алхимический элемент есть земная копия тоже живого астрального тела» [Рабинович, 1976, 229].
В этом карнавале смешения всего со всем через символическое уподобление смешивается небесное и земное, духовное и душевное, плотское. В итоге, духовное овеществляется, то есть воспроизводится уже описанная языческая практика, только в другую культурно-историческую эпоху. Так отношения между небесными и земными телами описывается как супружеское соитие [Рабинович, 1976, 88].
Соизмеримость Божественного и земного ляжет в основание такого мировидения, когда абсолютное станет средством выражения внутреннего мира человеческий души. Подобный подход будет преобладать в искусстве и религиозной мистике Ренессанса. Особая роль здесь принадлежит немецкой мистике. Лосев в своей незавершенной работе «Самое Само» описывает эту традицию, по его словам, «немецкого имманентизма»: «Этот историко-философский процесс германского имманентизма начался в XIII в. с деятельности Майстера Экгарта. <…>, когда Абсолютное на все лады трактуется как соизмеримое с человеком, когда вместо Абсолюта проецируется та или иная человечески пережитая и человечески осмысленная предметность. Абсолютное выступает то как мистическая глубина индивидуальной души, то как красивый вселенский хаос – предмет романтических чувств и исканий, то как рациональная схема логически построенных законов или понятий, то как произведение искусства, то как бессмысленная, но вечно жаждущая жизни мировая воля, то как возвышенная и моральная проповедь некоего мирового Я…» [Лосев, 1994, 369]
В русле этого мистико-религиозного направления особая роль принадлежит Я. Беме, который соединил элементы оккультных наук – астрологии, алхимии и каббалы – в одно богословско-философское учение, значительное место в котором занимает концепция божественного и человеческого слова. В этом христианизированном учении человек уподобляется Богу через способность говорить.
И. И. Фокин хорошо показывает пронизанность языковой концепции немецкого мистика началами оккультизма: «Беме нигде не встретил той языковой формы, которая была бы достаточно эластичной для живого содержания его душевного опыта и познания, заимствуя средства своего языка из самых различных областей, так что душевные состояния соединяются у него с алхимической символикой, библейское содержание – с астрономическими теориями, а встречающееся порой «понятийное» мышление почти всегда переходит в мифы и образы Ветхого и Нового Заветов. Его первое метафизическое употребление и истолкование немецкого языка определено христианским пониманием сущности и назначения человека, его Божественного Призвания в этом мире, ибо человек есть Образ, Откровение и Открыватель Божий. Это означает, что рождение человеческого слова в человеческом духе есть образ рождения Божественного Слова в Боге: Человек говорит потому, что говорит Бог, и в возникновении человеческого слова выражается теогония Божественного Слова. Слово есть первое дело Бога, и потому язык есть, согласно этому взгляду, первое дело Его подобия, человека, осуществляющего себя в своем слове, подобно тому, как Бог осуществляет Себя в своем Слове, как «форме» своего Существа» [Фокин, 2011, 84].
Представление о сущностной соизмеримости Божественного Слова и слова человека к Беме перешло из каббалы [Синило, 2012, 301].
Представление о слиянии слова и вещи, слова и природы перешло к Беме из алхимии, в частности, из Парацельса, в учении которого слово, словесный знак, «сигнатура» оказывается началом, выражающим сущность всякой вещи через ее внешнее проявление, так весь мир есть выражение Бога. Посредством сигнатуры человек постигает внутреннюю сущность Бога [Фокин, 2011, 89–90].
Все эти темы и мотивы органического символизма – слияние слова и вещи, духа и природы, божественный статус человеческого языка, органическое соотношение внутреннего и внешнего в символе/образе, принципиальная незавершенность, бесконечность всякого истолкования, – на основе которых формируется стиль ренессансной символики, будут введены в научный контекст в рамках романтического направления поэтологической мысли и в художественной практике, прежде всего, немецкого романтизма.
Сторонники романтизма, и прежде всего немецкие романтики, вновь заговорили о цельности, об утраченной цельности. Но это уже не цельность эйдетическая, как это было в античности; не теоцентрическая, как верили в Средневековье; а цельность, основанная на опыте автономного мышления, то есть критерием целостности признается человеческий ум. Цельность теперь видится в преодолении разделения между рассудочным и чувственным, между субъектом и объектом, природой и духом, телом и душой, неодушевленным и одушевленным. На природу переносится личностное начало, а личность воспринимается частью природы [Тодоров, 1998, 220].
Но это так – в сфере духа. В реальности ощущаемой мир предстает разорванным, фрагментарным, несовершенным. Налицо противоречие. Как же понимать цельность? Символически. – Как ту цельность, которая являет себя в каждом фрагменте феноменального. Таким образом, категория символа оказывается центральной в романтическом миросозерцании, а противоречие становится структурным моментом романтического символизма.
Следует сказать, что в сочинениях Шеллинга история формирования и развития традиции органического символизма получает философско-эстетическое обоснование. Именно ему принадлежит формула символа как организма. Философ различает три способа изображения – схема, аллегория и символ. Если в схеме общее обозначает особенное, а в аллегории особенное – общее, то в символе общее и особенное синтезированы до абсолютного единства, так что особенное и есть общее, а общее – особенное [Шеллинг, 1966, 106].
Примечательно, что иллюстрирует изобразительные формы Шеллинг примерами из жизни природы: «Можно сказать так: природа, создавая телесный ряд, только аллегоризирует, ибо особенное лишь означает общее, без того чтобы им быть; поэтому здесь нет различия родов. В свете в противоположность телам природа схематизирует, в органическом мире она символична, ибо здесь бесконечное понятие связано с самим объектом, общее всецело есть особенное и особенное есть общее» [Шеллинг, 1966, 110].
Органично, а значит символично, искусство: «Если для нас представляет интерес проследить возможно основательнее строение, внутренний строй, соотношения и ткань растения, насколько больше должно было бы нас занимать обнаружение этой же самой ткани и соотношений у тех гораздо более высокоразвитых и замкнутых в себе организмов, которые именуются произведениями искусства» [Шеллинг, 1966, 56].
Таким образом, стратегия органического слияния в символическом миросозерцании сознания и бытия, духа и природы, выражающаяся в стиле органической символики, станет притягательной для многих художественных направлений словесности и философских концепций последующего времени.
* * *
Как следует из вышеизложенного, принципиальное типологическое различение символизма проявляется в принципах познания. Опора в познании на естественный разум, то есть стратегия познания невидимого через видимое, порождает естественный символизм. Такой путь предполагает объект познания и направленный на него человеческий разум. Объект познания всегда остается одним и тем же, а качество и глубина познания зависит от способностей познающего ума. В свою очередь, познание благодатное, превышающее тварные способности человека, доступное разуму преображенному, рождает символизм духовный. Такой путь познания есть путь соединения с Богом, и предполагает изменение не только человеческого разума, но и всего естества человека. В духовном символизме происходит преображение тварного начала в человеке. Чтобы увидеть, надо измениться, преобразиться, стать ближе к Богу, или, как говорится в богословии, обожиться.
Различие в принципах познания в естественном и духовном символизме, в свою очередь, влечет за собой ряд следствий в отношении других сторон символизации.
Духовное состояние, из которого рождается духовный символизм, предполагает опытное, откровенное знание видимого через невидимое и, следовательно, здесь символ менее требует толкования. Напротив, душевное или естественное состояние, из которого рождается естественный символизм, означает знание, основанное на способности ума или, что то же, на мнении, и здесь символ требует более толкования.
В связи с этим возникает различное отношение к способности воображения.
В духовном символизме действует ум, очищенный от страстей. Воображение как действие ума при этом формируется не из материала мира вещественного, чувственного, а из духовного видения бытия в его полноте видимого и невидимого. Так как духовное ведение – это знание откровенное, достоверное, оно не требует вымысла, фантазии. Вымысел, если и присутствует, играет служебную, в частности, воспитательную роль. Так, Иисус Христос говорит народу притчами по причине огрубелости сердец людей (Мф. 13: 13–15). Здесь вымысел и символическое сказание имеют воспитательное значение: огрубелый сердцем для всего духовного человек, столкнувшись с чем-то непонятным, имеет возможность остановиться и задуматься, что уже само по себе является шагом из круга подчинения вещественному. Достоверность знания в духовном символизме не имеет подтверждения в чувственной очевидности, это ведение духовное, которое есть результат жизни в вере.
По этой причине, как справедливо утверждает Аверинцев, христианский символ – это знамение, требующее веры/верности [Аверинцев, 1997, 130]. Важно понимать, что под верой здесь понимается не только человеческая способность, подразумевающая момент развития, но именно опыт веры, плод жизни во Христе. Вера означает здесь такое состояние, такую сверхъестественную трансформацию внутреннего мира человека, в пространстве которой он приобретает способность нового для него видения – видения духовного. Первая ступень духовного видения рождается в опыте покаяния и смирения [Игнатий (Брянчанинов), 2014, Творения, т. 2, 421].
Таким образом, духовный символизм предполагает ряд христианских добродетелей – веру, покаяние и смирение. На этот счет существует интересная работа В. П. Гайденко и Г. А. Смирнова «Предметная и аскетическая составляющие средневекового символизма», в которой авторы говорят о том, что символ указывает на нечто трансцендентное человеку в его обычном состоянии, что это нечто, будучи трансцендентным для естественных способностей и естественной установки сознания, является бытием сверхпредметным и требует для своего познания акта веры, акта смирения и внутреннего преображения человека [Гайденко В. П., Смирнов Г. А., 1986, 77–78]. Другими словами, вера, покаяние, смирение понимаются со своей познавательной стороны – это, в сущности, точки вхождения в сверхъестественное, духовное, видение. А уже духовное видение является непременным гносеологическим условием духовного символизма.
В естественном символизме действует ум, не свободный от страстей. Воображение преимущественно питается впечатлениями от мира вещественного. Сам по себе вещественный мир содержит в себе только намек на то, что бытие имеет смысл, что за миром видимым скрывается мир невидимый. Символическое миросозерцание и означает опыт и принципы видения невидимого через видимое. Но это всегда знание вероятностное, гадательное, и вымысел в естественном символизме имеет принципиальное значение, так как символическое видение бытия в его полноте видимого и невидимого требует угадывания/интуиции, домысла или вымысла. Так, Аристотель видит задачу поэтического творчества в домысливании того, что могло бы быть, так как фактическая история не являет бытие в его полноте: «… Задача поэта – говорить не о том, что было, а о том, что могло бы быть, будучи возможно в силу вероятности или необходимости» [Аристотель, 1983, 655]. Шеллинг видит задачу художника в воссоздании цельности: «…всякий великий поэт призван превратить в нечто целое открывшуюся ему часть мира и из его материала создать собственную мифологию…» [Шеллинг, 1996, 146–148] И хотя Аристотель язычник, а Шеллинг представляет западное христианство, тем не менее задачу искусства они видят как воссоздание цельности, что, соответственно, требует вымысла. Вероятностность, гадательность знания в естественном символизме акцентирует внимание в символе на моменте тайны/таинственности: символически понимаемое бытие здесь – это, прежде всего, бытие, требующее разгадывания.
Естественный символизм в равной мере присущ античности, средневековью, ренессансу и последующим культурно-историческим эпохам, но в зависимости от духовно-нравственной, идейной, аксиологической и эстетической направленности той или иной культуры оценивается по-разному. В античности и ренессансе этот тип символизма преобладает, в культуре средневекового христианства до разделения церквей он входит в круг символического познания в виде подчиненного момента.
Духовный символизм, в свою очередь, присущ исключительно христианской культуре, но получает неодинаковое распространение в восточном и западном христианстве – на православном востоке этот тип преобладает, на христианском западе с времени введения в догмат филиокве и начала формирования католической духовности он замещается символизмом естественным.
В любом типе символизма, в любом стиле символики имеются свои критерии истины, критерии достоверности. В духовном символизме таким критерием является вера в то, что духовное ведение бытия является знанием откровенным, благодатным. В естественном символизме античности таким критерием будет структурное соответствие макрокосмоса и микрокосмоса, мира божественного и мира земного. В соответствии с этим античный символизм можно назвать символизмом структурным. В эпоху ренессанса критерий структурного соответствия в целом сохраняется, но в структуре, прежде всего, отмечается, выделяется момент органики, органического развития, так что ренессансный символизм можно назвать символизмом органическим.
В истории европейской литературы и русской художественной словесности названные типы и стили символики сосуществуют в разной степени соотношений как в русле какого-либо художественного направления, так и в художественном сознании того или иного писателя.
Например, в художественном и поэтологическом сознании последующих культурно-исторических эпох античный символизм будет многообразно отражаться, и главным признаком его актуальности для того или иного автора будет идея преобладания общего над частным. Яркий пример трансформированного символизма античности – популярная для реализма XIX столетия мысль о решающем влиянии социально-экономических отношений, «среды» на мировоззрение и поведение человека. На уровне научного сознания подобная трансформация выразилась, например, в поэтологических воззрениях научных направлений формализма и структурализма, когда художественное произведение предлагается изучать как историю неподвижно-текучих форм и структур текста.
Для художественного сознания многих русских писателей XVIII–XX вв. станет характерным движение от естественного символизма к символизму духовному. И творческая судьба Достоевского в этом смысле является наиболее показательной.
Следует отметить, что в художественной отечественной словесности Нового времени, когда на природу художественного творчества были усвоены представления, принятые в европейской культуре Возрождения, мы не находим примеров творчества на основе преображенного разума. Тем не менее, православная вера русских писателей находит на страницах их произведений свое художественное выражение. Для художественного метода некоторых из них свойственен духовный символизм. Он рождается как художественное выражение стремления писателя к евангельской Истине. Но критерием истины здесь становится не полнота духовного опыта, доступная человеку святой и праведной жизни, а полнота христианского символического миросозерцании, явленная в Св. Писании и творениях Отцов Церкви. Вот что говорит Достоевский о Библии словами старца Зосимы: «Что за книга это священное писание, какое чудо и какая сила, данные с нею человеку! Точно изваяние мира и человека и характеров человеческих, и названо все и указано во веки веков» (14; 265). На них и ориентируется христианский писатель как на образец символического миросозерцания. При этом следует иметь в виду, что с опытом святоотеческих толкований Св. Писания русский писатель знакомился не столько из первоисточников, сколько из православной церковно-литургической традиции. Как пишет Л. В. Левшун, требование Кормчей и Типикона обеспечить книгами «богослужение, монастырский обиход и духовное окормление граждан» было ориентировано на святоотеческие произведения [Левшун, 2009, 139]. Об этом же пишет Достоевский: «Кроме того, у нас есть великая школа богословия, это наша обедня, открытая для всех» (24; 123).


