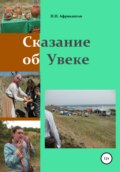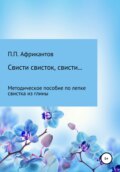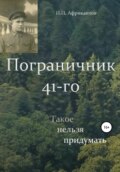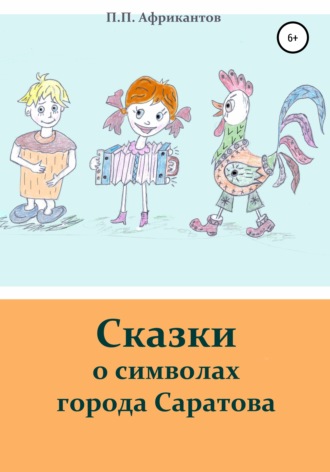
Пётр Петрович Африкантов
Сказки о символах города Саратова
Монстр Тунгалот
Когда ты ещё не родился, и меня тоже не было на белом свете, появился на земле саратовской монстр по имени – Тунгалот. Откуда он пришёл – никто не знал и где его место обитания – никто не ведал. Многие области захватил в русском государстве Тунгалот, многие города были под его властью, дошла очередь и до Саратова. А власть у Тунгалота была особенная, не как у других завоевателей. Возьми хоть того же дракона о десяти головах. Так он съедал молодых девушек. Или великан Берендей – этот всю скотину поел, и всё ему было мало.
Тунгалот никого на захваченных территориях не ел: ни девушек, ни скотину. Ему люди сами несли всё, что он пожелает. Но прежде, чем люди становились такими послушными и безвольными и подвластными, Тунгалоту надо было отобрать у них самое главное, что они имели – их творческий божий дар.
Этот божий дар никогда нигде людьми не прятался, он всегда у горожан был на виду. Так, таким даром саратовцев было умение выпекать несравненный саратовский хлебный калач, изготавливать чудесную саратовскую гармошку с колокольчиками с очаровательным звоном и играть на ней, и лепить превосходную саратовскую ямчатую глиняную игрушку.
Саратовцы умели их делать лучше всех на свете и этим очень гордились. Они называли эти чудесные изделия достопримечательностями своего города и символами земли саратовской, и всякий человек, приезжавший в Саратов, обязательно покупал у городских мастеров или калач, или гармошку, или глиняную игрушку.
Были эти изделия не просто символами. Так при помощи глиняной игрушки саратовцы воспитывали своих детей. Игрушка делала их добрыми, сильными, смелыми и любящими свою Родину. Саратовский калач – был воплощением трудолюбия саратовцев, он давал им жизненную силу и стойкость, а гармошка с колокольчиками веселила душу и делала её неподвластной никаким монстрам. Вот такие это были символы.
Тунгалот знал об этом и понимал, что пока у горожан есть их символы, города Саратова ему не завоевать и жителей его не покорить. Разумеется, он мог бы разбить все игрушки в городе, порвать все гармошки и проглотить все калачи, только это ничего не решало. Горожане, обладая божьим даром, тут же налепят новых игрушек, наработают гармошек и напекут калачей. Тем дело и кончится.
Надо было в начале, отнять у них божий дар, чтоб саратовцы не могли ничего этого делать. Именно в нём заключалась жизненная сила саратовцев, без него они безвольны и беспомощны. Чтобы божий дар перестал действовать, горожане должны добровольно отдать Тунгалоту свои изделия и пообещать – больше игрушек не лепить, гармошки не делать и калачей не выпекать. Но кто ж на это из горожан пойдёт, кто – ни за что, ни про что расстанется с божьим даром!?
Чтобы так произошло, Тунгалотом был придуман хитрый зловещий ход. Монстр напустил на город голод. Три года подряд поля вокруг Саратова не давали урожаи. Это был страшный голод. Многие люди от голода теряли рассудок и были готовы отдать всё, лишь бы получить кусочек хлеба или горсточку овса и выжить. В то время тут и там по улицам Саратова раздавались крики: «Тун-га-лот!!! Возьми гармошку, сделанную моим дедом…». «Тун-га-лот!!! – возьми мои ямчатые игрушки…».«Тун-га-лот!!! Возьми рецепт выпечки хлебного калача, это единственное что у меня осталось! Не дай помереть с голоду мне и моим детям…»
– Пообещайте мне, что вы никогда не будете лепить свои паршивые игрушки, никогда не будете делать свою мерзкую гармошку с колокольчиками, и выпекать этот поганый калач!!! – гремел голос Тунгалота.
«Мы обещаем…! Обещаем…! Обещаем…!» – доносилось с разных сторон.
Страшно было смотреть на этих ползающих по улицам и умирающих по подворотням людей. Так при помощи голода, отобрал Тунгалот у саратовцев их достопримечательности, их удивительные изделия, а с ними и их творческий дар, и строго-настрого приказал больше калачей не выпекать, игрушку не лепить и на своей саратовской гармошке не играть.
Но, были и такие, кто не поддался, ни голоду, ни уговорам, ни пыткам и не отрёкся от божьего дара. Этих стойких и непримиримых Тугнгалот связал и угнал в Хвалынские горы, приковал цепями к стенам в пещерах и завалил те пещеры камнями. Не любит монстр, чтоб ему перечили.
Живут так горожане год, два, десять лет, притерпелись. Вроде бы и Тунгалот не такой уж и страшный, рубашку последнюю не снимает, хоть и скудно, но кормит. Тут главное – ему не перечить.
Живут горожане, ходят понурые, подавленные и даже друг на друга не смотрят. Если идут мужики друг другу навстречу, стукнутся лбами, почешут ушибленные места и, не сказав ни слова, разойдутся. Не люди они стали без божьего дара, а стало быть, без игрушки, гармошки и калача. Стали они тенями безучастными, всё им не в радость, живут без забав и творчества, не танцуют, не пляшут; скудно, скучно, не хорошо стало в их домах.
И всё бы так в городе и шло, если б не Иван Микитов сын, торговый человек по призванию, купец по названию. Приехал он после дальних странствий в Саратов и своего родного города не узнал. Улицы и переулки все на месте стоят, а вроде всё как-то не так: дома кособочатся, крыши скудеют, на улицах свиньи ходят и рылом мостовую рушат, рядом ребятишки в земле перемазанные сидят и плачут, а няньки и мамки на них внимания не обращают.
«Что с ними происходит? – думает купец Иван. – Не эпидемия ли какая? Жизнь горожан стала на животную жизнь походить – поел, попил и набок и ничего их не волнует, ни к чему сердце не лежит и не к чему они не стремятся. Город рушится, а им хоть бы хны».
Возмутился Иван Микитов сын и спрашивает проходящего мимо мужика, дескать, что это в городе творится? А тот, этак блаженно улыбается и отвечает: – Ничего, батюшка, не творится, живём потихоньку, главное – живы и то хорошо. Благодетель о нас заботится.
– Да как же это, хорошо! – возмущается Иван-купец. – У вас скоро свиньи деток поедят, и ваши дома подкопают, а ты говоришь хорошо! Чего ж тут хорошего! Вон по улице ребятишки играют: у одного руку свиньи по локоть отъели, у другого ногу по колено.
Тут баба подошла в грязном мятом сарафане, на руках ребёнка непричёсанного держит и тоже мужику вторит:
– Живы мы, батюшка. А если кого из ребятёнков свиньи сожрут, так мы ещё народим и всё будет хорошо. Главное – мы счастливы.
– Вы что, ополоумели что ли?!!! – кричит вне себя купец. – Знамо ли такое дело, что вы говорите!! У вассвиньи детей калечат, а вам хоть бы что! Счастливы, видите ли, они… – Плюнул купец с досады и пошёл дальше по улице.
Идёт, видит у дома на скамеечке бабушка сидит, старенькая – старенькая в сто годов. «Дай, – думает, – поинтересуюсь у неё, что происходит?» Подошёл и спрашивает:
– Здравствуй, бабушка!
– Здравствуй, мил человек, – прошамкала та в ответ.
– Я купец, Микитов сын, Иваном зовут. Может быть слышала? Из купцов я.
Та в ответ кивает, подслеповатыми глазами на купца Ивана смотрит и отвечает:
– Микитку знаю. Дельный был человек.
– Скажи-ка, бабулечка, – говорит Иван, – что в городе происходит. Мужики и бабы какие-то замороченные ходят, их детей свиньи калечат, а спросишь, почему так? то ответ один – «Хорошо, что живы, батюшка». И больше от них ничего не добьёшься. Разве это хорошо, что ты только жив и в желудке чего-то есть? Это зверю лесному хорошо, а человеку нет. Человек душой, разумом и божьим творческим даром наделён. Он этим живёт. Если у него всё это отнять, то и нет человека. Был человек, и нет его.
– Прав ты, Иван-купец, – проговорила старушка. – Так всё и есть.
И тут бабушка рассказала ему о том, что пока купца Ивана не было в городе, пришёл монстр Тунгалот и обманом и насилием отнял у людей их божий дар, запретил людям делать то, к чему они с детства приучены, на чём вырастали и мужали, к чему их душа лежит. Не стало у горожан ни игрушки, ни калача, ни гармошки. Одна только еда скудная и осталась, как у животных. А виною всему Тунгалот.
– Спасибо, бабуся! – сказал Иван Микитов сын. – Теперь мне понятно, почему люди в городе такие безразличные и потерянные. Не знаешь ли ты, бабушка, где живёт этот Тунгалот?
– Вот этого я не ведаю, а знаю, что монстра Тунгалота может победить только наша народная игрушка. Больше никто с ним справиться не может.
– А как же игрушка с ним совладает? Объясни.
– Запоминай, Микитов сын, – говорит бабушка. – Надо слепить из глины с Соколовой горы бычка, затем четырёх петушков, потом утоптать из репьёв большое одеяло. Одеяло репьяное надо накинуть на спину бычку. Да так накинуть, чтоб одеяло и спину закрывало и шею и голову. Для рогов и глаз проделай в одеяле отверстия. Рогами бычок будет Тунгалота воевать. Репьяную защиту в бою Тунгалоту не пробить и не изломать. А по-другому Тунгалота никак не взять, потому как царство его не от мира сего, не от тела и силы, а от духа тьмы.
Дух тьмы, Ванюша, боится только изделий народного творчества, потому как в них сосредоточена любовь и правда. В этом их сила. Это и есть божий дар. Сделаешь всё, как я тебе сказала и жди. Тунгалота не ищи, он сам тебя найдёт и к тебе придёт. Нюх у него на тех, кто его воле сопротивляется и запретное делает. Только как боевой бычок и петушки будут готовы, и Тунгалот появится, произнеси: «К бою вы теперь готовы, Тунгалота зрите в оба». Сам увидишь, что будет.
– Понял, бабушка, понял. Спасибо тебе. Скажи мне ещё вот чего….
– Только вопроса купец Иван задать не успел. Посмотрел он на бабульку и увидел, что она отошла к господу Богу. Спокойно её стало лицо, будто и жила она до стольких лет, только для того, чтобы передать Ивану Тунгалотову тайну.
«Ну, – думает Иван купец, гармошку я сделать не сумею и сыграть на ней не сыграю, калач тоже не испеку, рецепта нет, а вот, глиняную игрушку, попробую слепить, в детстве у меня это неплохо получалось».
Не откладывая дела в долгий ящик, накопал Иван глины, добавил в неё воды, помял, получилось глиняное тесто, и стал он из этого теста игрушку лепить. Слепил глиняного бычка и четырёх петушков, как бабушка велела, высушил их, затем набрал репьёв и утоптал из них одеяло. Получилась этакая кольчуга для бычка. Хотел уже отдохнуть после проделанной работы, как поднялся сильный ветер, просто ураган. Завыло, затрещало вокруг, глаза запорошило пылью, и явился из этой пыли перед купцом Иваном сам монстр Тунгалот.
– Что, Иван – купеческий сын, лепишь!? – загрохотал он челюстями и языком. – А не знаешь того, что я запретил горожанам под страхом смерти играть на гармошке, лепить игрушки и выпекать саратовский калач!!!
Говорил монстр медленно. Его слова катились из пасти, как камни с горы и от дыхания шёл ветер.
– Ты, Иван, нарушил мой приказ, – продолжал он, – и должен за это ответить. Отвечать будешь собственной жизнью, другого ответа я не признаю. Саратов теперь мой город. Опоздал ты, Иван. Не мешай горожанам так жить! Уходи! Они мои! Они счастливы! Нельзя у горожан отнимать их счастье, какое бы оно не было. Я из них создал новую популяцию существ на земле. Жаль, что ещё названия этой популяции не успел придумать… В общем, это не трудно сделать. Пусть будут «ЧЕЛОЖИВЫ». Звучит неплохо и со смыслом?!
Челоживы – это полулюди, полуживотные. Вот, что стало с твоими земляками купец. Стоило у них отнять дар божий, и они стали – никто. Ха-ха-ха-ха!!! Они превратились в счастливых идиотов… Ха-ха-ха-ха!!!
Он хохотал так, что дребезжали в окнах стёкла.
– Ты говоришь, что за свои слова надо платить жизнью! – вскричал купец. – Так я тоже горожанин, как и они все. Твои слова распространяются и на меня. Я готов платить жизнью за их жизни!!!
– Хорошо! – прорычал Тунгалот. – Ты сам вытащил свой жребий. Выбирай, на чём мы будем с тобой драться.
– Я выберу, обязательно выберу. Только ты сам знаешь, что я купец, а не воин, драться совсем не умею. Могу я выставить вместо себя замену?
– Выставляй хоть кого, – проговорил монстр и вдруг превратился в большого рыкающего льва, – мне не страшно, – и хлестнул хвостом по траве. Только знай, что съем я тебя, а не их. – Лев посмотрел на Ивана-купца и облизнулся.
– Договорились, – сказал купец. – Он поставил на землю бычка и петушков, накинул на бычка репьяное одеяло с прорезями для глаз и рогов и произнёс слово, которое ему сказала старушка. «К бою вы теперь готовы, Тунгалота зрите в оба».
И вдруг, его бычок, и четыре петушка стали расти и выросли на глазах до своих естественных размеров, а вместе с бычком выросло и репьяное одеяло, которое было для бычка совершенно безвредным, так как бычок был сделан из глины.
– Думаешь, что ты запугал меня этими мясными бутербродами? – прорычал лев-Тунгалот. Видал я и пострашнее, – и он с рыком бросился на бычка, как на самого большого. Бычок выставил навстречу льву-Тунгалоту рога. Лев-Тунгалот напоролся на них, громко взревел, отскочил назад. От боли и злобы его глаза налились кровью и вдруг, сделав невероятный прыжок, лев-Тунгалот очутился на спине у бычка. Он стал рвать когтями репьяное одеяло и грызть его зубами, но репьяное одеяло надёжно защищало спину бычка, и не поддавалась. Наоборот, репьи набились Тунгалоту в рот и нос. Льву-Тунгалоту стало трудно дышать.
Тут петушки захлопали крыльями, поднялись в воздух, схватили клювами за углы репьяное одеяло, подняли их и обернули репьяным одеялом льва-Тунгалота, как конфетку оборачивает фантик, со всех сторон. Репьяное одеяло сковало движения льва, иглы репьёв вонзились в его шкуру. Он завизжал от боли. По всему телу его пошли судороги. Он пытался разорвать репьяное одеяло, но у него ничего не выходило. Наконец лев-Тунгалот обессилел и затих.
– Как видишь, ты проиграл битву, – сказал купец-Иван, подходя к Тунгалоту. – Скажи, где ты скрываешь саратовских мастеров, которые не подчинились тебе, и ты их за это силой увёл из города? Ну! – проговорил Иван требовательно и угрожающе.
– Не скажу… – прохрипел Тунгалот.
– И не надо. Пусть не говорит, – протрещала сорока. – Я летала, я всё видела… Он их прячет в пещерах Хвалынских гор. Они там прикованы к стенам цепями.
От этих слов сороки, Тунгалот аж прозеленел. Сорока выдала его тайну. Тунгалот хотел выторговать свою свободу в обмен на свободу этих несчастных мастеров. А тут эта болтливая птица.
– Хорошо! Твоя взяла! – проговорил Тунгалот и покорно опустил голову.
– Веди нас к подземельям Хвалынских гор! – приказал купец. Он накинул на голову Тунгалота узду, взял в руки вожжи, сам сел на спину бычка. Впереди них шагали четыре глиняных петушка. Процессия двинулась к Хвалынским горам. Впереди них летела, показывая дорогу, сорока. Через два дня на третий они были на месте. Сорока показала большой камень, которым был закрыт вход в пещеру.
Как только они отвалили камень и вошли в пещеру, то увидели прикованных к стенам цепями крестьян и горожан, которые не подчинились приказу Тунгалота. Они сохранили в себе божий дар. В народе всегда находятся герои, наделённые смелостью и силой сопротивляться злу. Игрушки вместе с купцом сразу стали сбивать оковы с узников. Радость у мастеров была без конца и без края.
Освобождённые, тут же приковали к стене за лапы Тунгалота. Тунгалот в злобе хрипел и говорил:
– Вы думаете, что победили меня?! Ошибаетесь. Пройдёт время и бездумный любопытец прокопает в пещеру палкой отверстие и выпустит мой дух наружу. Вот тогда и посмотрим, чья взяла!!!
Но люди его не слушали. Уходя, они завалили вход камнями, строго настрого приказав сороке никому не выдавать места, где находится Тунгалот.
Прошло немного времени, как воротились мастера из Тунгалотова заточения в свои семьи. Они сразу начали делать глиняные игрушки, играть на гармошке и выпекать вкусные калачи, а герб города с тремя стерлядками, который сбил Тунгалот, снова поместили на старое место.
И. О! Чудо! Народ воспрянул духом. Он всё вспомнил. Глядя на свои игрушки, калачи и гармошки, в нём проснулась потребность не только жить, но и творить, любить и быть любимыми. Первым делом горожане прогнали свиней с улиц и заперли их в свинарниках; наделали для детей глиняных игрушек и всех в городе накормили вкусными саратовскими калачами с хрустящей корочкой. Затем в городе был устроен праздник, на котором саратовская гармошка с колокольчиками, так веселила жителей, что те плясали до упада.
Саратовцы были необыкновенно рады. Жизнь их снова стала весёлой и счастливой, им вернулся божий творческий дар. «А как же сорока?» – спросите вы. С ней всё хорошо. Но ей так хочется рассказать про пещеру, так хочется, но она не может нарушить данное слово – не говорить никому, где замурован Тунгалот.
Саратов, 2019, 2 октября.
Вязары
Как-то повёз игрушечник Трофим в дальнее село глиняные игрушки продавать. Положил их в телегу на сено и сеном прикрыл, запряг коня и поехал. Едет он, то полем, то перелеском, а тут в лес въехал. Дорога осенняя, тряская, лужи глубокие встречаются. Трофим их объезжает, а сам думает: «Хорошие игрушки получились, то-то будет выручка знатная…» А тем временем одна доска в задке телеги от тряски по кочкам возьми и подломись. Те игрушки, что на этой доске лежали, так сразу в дыру и попадали. Только упали они не на твёрдую землю, а в густую траву, так как игрушечник в это время большую лужу на дороге объезжал, вот и свернул в сторону. Трофим и не заметил, что у него игрушки из телеги вывалились, так дальше и поехал.
Игрушки же, немного полежав в траве, стали из неё выбираться. Рыбачка Алёна со стерлядкой в руках, первая завозилась и, через силу перешагивая через густую траву, вылезла и села тут же рядом под берёзой. Минуты через две к ней подошла калачница Марфа с калачом в руках. Она рядом с Алёной из телеги приземлилась. За ней Груня с коровкой – Пестравкой появились. Груня подошла и рядом на землю села, а Пестравка тут же начала травку жевать, что рядом с берёзой росла. Позже подошли Ивашка-гармонист, петушок с топором на плече и гусь.
Ивашка стал сразу пробовать гармошку – не повредилась ли при падении; гусь, вытянув шею и пригнув её к земле, стал шипеть и возмущаться тем, что игрушечник Трофим не закрепил доску в телеге и что это большое безобразие. Один петушок деловито ходил взад и вперёд и о чём – то сосредоточенно думал.
Первой из выпавших игрушек заговорила Марфа.
– Подружки мои милые! Мы что, так и будем сидеть под этой берёзой и мёрзнуть. Ведь осень на дворе, дожди перепадают, туманы, а у нас нет ни крыши над головой, да и идти – не знаем куда?
– Это верно, – проговорил гусь, – мы же лежали в телеге, накрытые сеном, и не можем знать, где и на какую дорогу повернул Трофим лошадь и где мы сейчас находимся?
– Верно, – подтвердила Алёна. – Мы знаем только то, что игрушечник нас вёз в город Саратов на базар и больше ничего.
– Совсем дело дрянь, – подвёл черту Ивашка-гармонист. – Где находимся? – не знаем, куда идти надо? – тоже не ведаем…
Сидят игрушки под берёзой, мёрзнут и никак ничего придумать не могут. От холода жмутся друг к дружке. Откуда ни возьмись сорока, села на сучок и трещит:
– Ишь, чего удумали! На ночь глядя в лес пришли! Чего сейчас в лесу делать!? Поздняя осень, ни грибов, ни ягод… пустота одна.
– Ты нас, сорока, не упрекай, –говорит в ответ петушок, –мы не по своей воле в лесу очутились. Доска в телеге обломилась, вот мы и вывалились. Где бы нами уже дети играли, а мы вот здесь мерзнем. Куда идти – не знаем, что делать – не ведаем. Лес вокруг… Помогла бы лучше нам, а то трещишь без толку.
– Ладно… ладно… Чего уж там, это я так, для форсу. Разве мы, сороки, в положение войти не можем.
– Так подскажи… – встряла Марфа-калачница. –Ты по лесу летаешь, всё знаешь, всё видишь, всё слышишь, а информация – дело великое…
– Знаю… летаю… слышу… вижу… На ус мотаю. Так как это самое сорочье дело – информацию собирать. Вороны вон тоже много чего знают, да не делятся. Прокаркает два слова и понимай, как знаешь… А мы, сороки, не такие, мы что знаем, сразу всем рассказываем и всё до тонкостей.
– Болтушки вы! – Не выдержал гармонист Ивашка. – Уже десять минут трещишь, какие вы сороки всезнающие и ни одного слова толкового, одна реклама вашей незаменимости.
– Ах, ругаетесь, так я совсем ничего не скажу, будете знать, – и сорока повернулась к игрушкам хвостом.
– Нельзя так с ней, – прошептала Ивашке Алёна.–Видишь, какая обидчивая.
– Извини, белобокая, я пошутил!!! – крикнул Ивашка сороке.
– И я пошутила, –протрещала сорока и, довольная тем, что перед ней извинились, повернулась к игрушкам передом, продолжила. – Вон, видите толстое высокое дерево, у которого макушка сломана, это дерево называется Вяз, –и она показала крылом в нужном направлении. «Да, да, видим» – закивали игрушки. – Так вот, идите к этому вязу, в нём найдёте дупло. В том дупле и переночуете, – и сорока улетела.
Игрушки пошли в указанном направлении и вскоре подошли к толстому дереву с дуплом. Дупло было не низко и не высоко, однако просто до него не доберёшься.
– И как же мы!? – воскликнула Алёна.
– А топор на что, – сказал петушок и быстро вырубил несколько сучкастых жердин. Затем нарубил коротких палок, положил на сучки жердин палки, примотал их стеблями вьющейся травы. Получилась лестница. Таким же образом он сделал ещё одну лестницу, покороче.
Петушок приставил лестницу к дереву и быстро по ней добрался до первого сучка. Затем, он от первого сучка до второго установил другую лестницу, поднялся по ней и очутился рядом с дуплом. Оттуда он махнул товарищам топором, дескать, следуйте за мной, и скрылся в дупле. За ним по лестнице стали подниматься остальные игрушки. Один гусь не хотел лезть по лестнице, а всё примеривался взлететь, но у него ничего не получалось, мешали ветки.
И вот все игрушки поднялись по лестницам и очутились в дупле. Дупло оказалось довольно просторным, так, что игрушки расположились в нём весьма неплохо. В дупле было тепло и уютно, а мягкая труха на дне служила хорошей постелью. Вскоре они уснули. А ночью погода изменилась – завыл ветер. Он раскачивал дерево и, поначалу было страшно, потому, как дерево старчески скрипело и вздыхало, и игрушкам чудилось, что к ним кто-то лезет страшный и большой. Но потом ветер утих, а утро уже было солнечное и спокойное.
Глиняшки проснулись отдохнувшими и весёлыми.
– Друзья! Раз уж так получилось, что по воле случая мы оказались здесь, в лесу и сорока помогла нам отыскать это великолепное дупло, то надобно уже нам самим позаботится о своей дальнейшей судьбе, – сказала молчунья Груня, обнимая свою коровку.
– Думаю, что в этом дупле мы и обоснуемся, – проговорил Ивашка, стряхивая с гармоники древесную труху. – А чего мы можем найти лучше этого? Думаю, что если мы хорошо поработаем, то это дупло превратится в шикарный дом.
– Так уж и в дом? – засомневалась калачница.
– А что!? Прорубим пару окон, чтоб светлее днём было, на вход в дупло установим круглую дверь, сделаем перед ней крылечко с перильцами, а? – продолжал рассуждать Ивашка.
Его идею подхватили. Каждый из присутствующих внёс своё предложение. Так рыбачка Алёна посоветовала поискать вокруг озеро или речку, чтоб в них рыба водилась, потому как жареная рыба им совсем не помешает. Калачница Марфа предложила изготовить в дупле печь и полку, чтоб было, где калачи выпекать и на полку ставить. Гармонист Ивашка захотел, чтоб вокруг ствола вяза, где находится дупло, была построена деревянная площадка с перилами и скамейками, чтоб было, где поиграть, поплясать и музыку послушать. Петушок порекомендовал, чуть ниже дупла, сделать ещё одно дупло, так чтобы жильё их было двухэтажным. В этом случае, первый этаж будут служить кладовой для съестных припасов.
– А ты что, Груня, молчишь, – обратился к девушке петушок, – посоветуй чего-нибудь.
– Мы совсем забыли о нашей коровке. Я предлагаю соорудить корзину и в этой корзине опускать коровку Пестравку, вниз пастись на лужок, что около дерева, тогда все будут и с молоком, и с маслом.
– Молодец, Груня, – похвалил Ивашка, – дельное предложение. – На том и порешили.
Вторым вопросом было обсуждение названия их общежитийного товарищества.
– Давайте назовём наше товарищество именем «Лесовики», – предложил гусь. Мы же в лесу живём, значит, лесовики.
– «Лесовик» – это другое. Это из области сказок про всяких гномов, кикимор и прочих, – усомнился в предложении Ивашка. – Нам надо такое название, чтоб оно суть нашего положения обозначало, где мы живём, как живём?
– На дереве мы живём, – буркнула Алёна.
– Вязары мы, вязары, – протараторил гусь.
– Что это за слово такое? Поясни, растолкуй, – попросил петушок. – Не слышал раньше.
– И растолкую, – боевито проговорил гусь.– Произведено это слово от названия этого дерева, в котором мы нашли своё убежище. Это дерево называется «Вяз». Стало быть, мы кто – «Вязары».
– Здорово придумал, – воскликнул Ивашка. – Я за это название, оно таинственное и древностью попахивает.
– Правильно! – поддержала его Алёна. – Глиняные игрушки, самые древние игрушки на земле. Они созданы были сразу после появления человека. Поэтому, название для нашего сообщества очень подходит. Есть в этом названии и мужественность, и таинственность…
Так игрушки и решили. Сказано, принято, сделано. Петушок тут же обстругал дощечку, написал на ней слово «ВЯЗАРЫ» и прикрепил к дереву с дуплом, только низу, чтоб все могли прочитать.
Игрушки стали теперь себя гордо именовать «Вязаровцы».
После совещания сразу застучали топоры, зазвенели пилы. С дерева от дупла полетела щепа и опилки. Петушок с гусем доски пилят, Ивашка с Марфой печь из глины сооружают, Груня для коровки-Пестравки большую корзину плетёт. Через три дня всё задуманное было сделано. Дупло было облагорожено. В нём появились полы, кроватки, в окна лились солнечные лучи, а из печи через трубу выходил дым и по всему лесу разносился чарующий запах Марфиных калачей. И потянулись к жилищу глиняных игрушек лесные жители, чтоб посмотреть, как Вязаровцы живут, а заодно и угоститься.
А угощать Вязаровцы любили. И шла по лесу о них слава. И чем больше о Вязаровцах узнавали – тем больше была слава и чем больше была слава, тем больше было у них возможностей встретить и недоброжелателей.
Сорока считала себя родоначальником этой славы, потому как именно она посоветовала игрушкам поселиться в дупле Вяза. Правды ради, надо сказать, что сорока действительно подсказала, где игрушкам можно переночевать и дупло показала, но не более того. Теперь же она летала по лесу и всем говорила, какое товарищество она организовала на дереве в дупле. Это же самое сорока сказала и волчьей семье, живущей в самой глубине леса в логовище.
– Лежите, серые! Спите!!! – протрещала она над самым ухом седой волчицы и вожака стаи по имени Деревянная лапа, прозванного так за то, что он действительно, когда-то попал в капкан и чтоб не попасть к охотникам, отгрыз себе лапу и убежал. Потом ему бобёр выточил деревянную лапу и вот уже много лет вожак ходит на ней. – Лежите, говорю я вам, – вновь повторила сорока, – а того не знаете, что я в лесу товарищество вязаровцев организовала!
– Что!? Как!? Где!? – встрепенулась волчица. – Какое такое товарищество!? Брешешь, белобокая?
– Я не брешу, а трещу к вашему сведению, брешут собаки.
– Ладно, не придирайся. И не надо о собаках. Там где собаки, рядом и охотники… Лучше скажи, где конкретно это дупло находится? В лесу много всяких дупел. Лапы сотрёшь по всему лесу от дупла к дуплу бегать
– Не надо бегать. Вяз с отломанной верхушкой, все знают. Там у них лестница приставлена. По лестнице они к дуплу и поднимаются. А на ночь ту лестницу убирают.
– Спасибо, милая… Дерево это мы знаем… Спасибо… Лети, уж. – Сказала ей Седая волчица ласково и сорока улетела.
– А что, – проговорил Деревянная лапа,– оглядывая выводок. – Не пора ли и нам попробовать калачиков в их вязарне. Птица говорит – больно они хороши.
– Это было бы очень кстати, – проговорила Седая волчица. – Только нам волкам не престало по деревьям лазить. Высоко, и разбиться можно. Надо что-то придумать, чтобы эта коммуна нас кормила и поила, а мы бы ничего не делали!
– Ха-ха-ха!!! Это славная мысль, – зарычал Деревянная лапа. Может быть, ты сама и придумаешь, как всё это обстряпать. Я что-то сегодня плохо думаю, видно вчера лосятиной объелся.
– Предлагаю слепить из глины шпиона и заслать его в дупло, – проговорила Седая. – Он там хорошенько всё обо всём узнает и нам расскажет, а мы уж обмозгуем, что нам дальше делать.
– Это мне нравится, это ты хорошо придумала, – похвалил Седую волчицу Деревянная лапа. –Только это что за шпион такой будет, которого мы сделаем?
– Ты, муженёк, совсем не хочешь головой работать, всё на клыки полагаешься. Как ты без лестницы к дуплу поднимешься, если не будет на дереве помощника и тебе эту лестницу оттуда он не спустит?
– Молодец, Седая,– и Деревянная лапа потёр лапу о лапу от предвкушения трапезы в дупле.
– Давай муженёк, слепим из глины Чучмыкало и пошлём это Чучмыкало к вязарам. Чучмыкало претворится больным и неимущим, вот вязаровцы его в дупло и пригласят, – предложила волчица.
– А кто это Чучмыкало, зверь, али человек? – поинтересовался вожак.
– И не зверь, и не человек. Мы же с тобой лепить не умеем. Ни путёвого зверя не слепим, а уж тем более человека. Слепим того, кто получится, тот и будет Чучмыкало.
– Ха-ха-ха!!! Вот здорово придумала! Славно у тебя, Седая, на это мозги работают. – И волки принялись за дело. Принесли глины, перемяли её лапами и слепили Чучмыкало. Что-то похожее на козу, зайца и поросёнка одновременно с двумя парами рожек и двумя парами ушей. Приделали ему поросячий хвост, прилепили лапы на передние ноги, а копыта на задние. Высушили его, подкрасили, чем и как могли и отправили к дуплу, строго настрого наказав про волков ничего не говорить, а если вязаровцы будут спрашивать кто он таков?, твердить одно, что он – Чучмыкало, слеплен из глины, пустите в ваше дупло перезимовать, иначе Чучмыкало погибнет от холода и голода.
Принесли волки в зубах Чучмыкало к дереву с дуплом, а сами спрятались за соседнее дерево и стали наблюдать. Чучмыкало же, выждав, когда волки спрячутся, заголосил:
«Помогите глиняному Чучмыкало!
Не дайте пропасть бедному сиротинушке!
Холод идёт – у Чучмыкало одежды нет!
Голод грядёт –у Чучмыкало поесть нечего!
Дожди идут – Чучмыкало размокает!
Враги окружают – Чучмыкало защитить некому!»
Услышали его причитания игрушки и стали разговор вести. С одной стороны вроде странник, а с другой стороны никто из вязаровцев никогда такого имени не слышал. Первой в пользу Чучмыкало высказалась сердобольная Алёна.
– Он же говорит, что он глиняный, значит, наш брат и надо помочь, – сказала она.
– Глиняный – то он глиняный, только кто его слепил? – нельзя в дом вот так, сразу, кого угодно пускать. – Заметила осторожная Марфа.