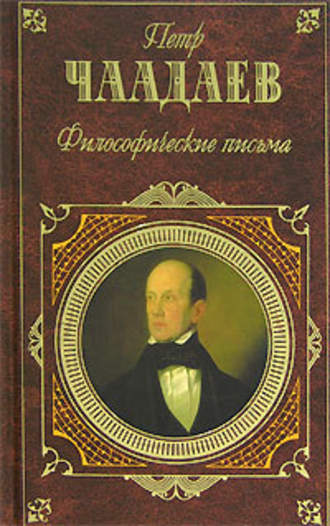
Петр Чаадаев
Философические письма (сборник)
1849
А. С. Хомякову[349]
Басманная, 26 сентября
Посылаю вам, dear sir[350], тетрадь, полученную мною от неизвестного лица для отослания к вам. Вам, думаю, не трудно будет угадать приветное перо, так удачно высказавшее ваши собственные сочувствия. Не знаю, почему сочинитель избрал меня проводником своих задушевных излияний, но благодарю его за то, что считает меня вашим добрым приятелем. Разумеется, приписка и письмо одного мастера. Из этой приписки вижу, что он предполагает меня разделяющим его мысли, и в этом он не ошибся. Не менее его гнушаюсь тем, что делается в так называемой Европе; не менее его убежден, что будущее принадлежит молодецкому племени, которого он заслуженный, достойный представитель, которого отличительная черта благородство без хвастовства в победе, черта, столь явно выразившаяся в настоящую минуту. В одном только не могу с ним согласиться, а именно что нам не нужно заниматься Европой, что нам должно оставить о ней попечение. Я полагаю, напротив того, что попечение наше о ней теперь необходимо, что нам очень нужно ей теперь заняться. Так, вероятно, думал и тот, который увенчал нас новой, славной победой. Не знаю, как сочинитель письма не заметил, что если б мы не занимались Европой, то нас бы не было в Венгрии, то мятеж не был бы укрощен, то Венгрия не была бы у ног русского царя, великодушный Бан находился бы теперь в очень неприятном положении, общая наша приятельница была бы в глубоком горе, и, наконец, мы не имели б случая обнаружить своего в торжестве смирения[351]. В том совершенно согласен с вашим почтенным сочувственником, что Европа нам завидует, и уверен, что если б лучше нас знала, если б видела, как благоденствуем у себя дома, то еще пуще стала бы завидовать, но из этого не следует, чтоб нам должно было оставить о ней попечение. Вражда ее не должна нас лишать нашего высокого призвания спасти порядок, возвратить народам покой, научить их повиноваться властям так, как мы сами им повинуемся, одним словом, внести в мир, преданный безначалию, наше спасительное начало. Я уверен, что в этом случае вы совершенно разделяете мое мнение и не захотите, чтоб Россия отказалась от своего назначения, указанного ей и царем небесным, и царем земным: я даже думаю, что в настоящее время вы бы не стали звать одну милость господню на западный край, а пожелали б нашим союзным братиям еще и иных благ.
Не знаю почему, заключая, чувствую непреодолимую потребность выписать следующие строки из последнего слова нашего митрополита:
«Возвышение путей наших в очах наших есть уклонение от пути божия, хотя бы мы на нем и находились».[352]
Сердечно вам преданный и пр.
1850
Кн<язю> В. Ф. Одоевскому
Басманная, 5 января
Вот, дорогой князь, письмо к вашему другу Вигелю, которое я попрошу вас приказать переслать ему как можно скорее. Эта милейшая особа написала мне[353], не сообщив своего адреса, которого здесь никто не знает. Чтобы вы могли хорошенько понять, о чем идет дело между сказанным Вигелем и мною, необходимо было бы послать вам его письмо, чего я в настоящую минуту сделать не могу; но в двух словах – дело вот в чем. Какой-то глупый шутник вздумал послать ему на именины мой литографированный портрет, сопроводив его русскими стихами, авторство которых он приписывает мне.[354]
Таков мотив его письма, в слащавой и вместе с тем ядовитой путанице которого трудно разобраться. Равным образом невозможно ни понять смысл стихов, ни догадаться, кто их автор. Как бы то ни было, вы видите, что необходимо возможно скорее предотвратить возможные последствия недоброжелательного предположения этого господина, ибо стихи могут вызвать прескверное впечатление, и это – во многих отношениях. Если вам не известен его адрес, то я думаю, что вам могут сообщить его в доме Блудова. Я злоупотребляю вашей дружбой, дорогой князь, но думаю, что вы дали мне на это право. За дружбу можно расплатиться только дружбой. Если эти строки доставят мне удовольствие прочесть ваши, то я буду благодарен неизвестному, подавшему к тому повод. Пишу вам по-французски, ибо не имею времени писать вам на родном наречии, менее послушном моему перу или менее поддающемся эпистолярному стилю, затрудняюсь сказать, что из двух. Что касается до вас, то вы имеете достаточно времени, чтобы написать мне на чистейшем русском языке: да, впрочем, если бы и не так, вы все равно на другом бы языке писать не стали.
Может быть, вы найдете какое-нибудь средство прочесть мое послание. В таком случае сообщите мне ваше мнение о нем; я был бы очень рад его знать.
Впрочем, вот что: я велю переписать письмо Вигеля, а также и мое, и вы найдете их оба в этом конверте.
Засвидетельствуйте мое глубокое почтение княгине, память о благосклонном участии которой я свято храню.
Я полагаю, что вы не сомневаетесь в моей неизменной и искренней преданности.
Петр Чаадаев.
Ф. Ф. Вигелю[355]
М. г. Филипп Филиппович.
Портрета своего я вам не посылал и стихов не пишу, но благодарен своему неизвестному приятелю, доставившему мне случай получить ваше милое письмо. Этот неизвестный приятель, сколько могу судить по словам вашим, выражает собственные мои чувства. Я всегда умел ценить прекрасные свойства души вашей, приятный ум ваш, многолюбивое ваше сердце. Теплую любовь к нашему славному отечеству я чтил всегда и во всех, но особенно в тех лицах, которых, как вас, общий голос называет достойными его сынами. Одним словом, я всегда думал, что вы составляете прекрасное исключение из числа тех самозванцев русского имени, которых притязание нас оскорбляет или смешит. Из этого можете заключить, что долг христианина, в отношении к вам, мне бы не трудно было исполнить. Сочинитель стихов, вероятно, это знал и передал вам мои мысли, не знаю, впрочем, с какой целью; но все-таки не могу присвоить себе, что вы пишете, тем более что о содержании стихов могу только догадываться из слов ваших. Что касается до желания одной почтенной дамы, о котором вы говорите, то с удовольствием бы его исполнил, если б знал ее имя.
В заключение не могу не выразить надежды, что русский склад этих строк, написанных родовым русским, вас не удивит и что вы пожелаете еще более сродниться с благородным русским племенем, чтобы и себе усвоить этот склад.
Прошу вас покорнейше принять уверение в глубоком моем почтении и совершенной моей преданности.
М. П. Погодину[356]
Письмо моего незабвенного друга получил и очень рад, что вам им угодил[357]. В мое с ним время умели писать по-французски и по-русски: не знаю, как нынче? Много чего есть у меня, что могло бы вам пригодиться для не-антикварских ваших трудов, но как-то общение у нас не ладится. Подождем железных дорог; может быть, тогда как-нибудь встретимся. Кстати или не кстати: прошлый раз позабыл вас поблагодарить за разбор павловской диссертации.[358]
Вам душевно преданный
П. Чаадаев.
Пятница.
1851
В. А. Жуковскому[359]
Басманная, 27 мая
Многие, может быть, подобно мне, не благодарили еще вас, любезнейший Василий Андреевич, за доставление последних трудов ваших, но немногие, думаю, имеют на то такое оправдание, какое я имею. Вы, вероятно, помните, что оставили меня, тому, кажется, десять лет назад, в доме, который тогда уже разрушался от ветхости и, по словам вашим, держался не столбами, а одним только духом. С тех пор продолжает он спокойно разрушаться и стращать меня и моих посетителей своим косым видом. Вот одно из тех смешных страданий глупой моей жизни, а их много, которые поневоле отвлекают меня иногда от исполнения приятнейших обязанностей; но все-таки винюсь перед вами, с тем, однако ж, чтоб выслушали меня о другом деле, которое пусть служит и выражением моей запоздалой благодарности.
На днях показывал мне Булгаков письмецо ваше о наших проделках с Фанни Елслер[360]. Знаете ли, какое впечатление произвели на меня эти немногия строки? Они грустно напомнили мне о моих утратах; они напомнили мне, что уже никого нет более среди нас, который бы мог хоть посмеяться над нами с некоторым авторитетом, то есть с пользою. Иных не стало, другие за горами. Таким образом, пользуемся мы совершенною безнаказанностью, врем что ни попало, на словах и на бумаге, в приятельской беседе и пред публикою. Нельзя сказать, чтоб мы стали глупее прежнего, но нельзя, однако ж, сказать, чтоб мы стали и умнее. Само собою разумеется, что многое узнали, о чем прежде и слуха не было, но что в том прока, если все это новознание или поражено бесплодием, или выражается на каком-то неслыханном наречии, наводящем тоску на читателя. Цензура не учитель, от нее ничему не научимся, а вкусу и подавно. Пора бы вам к нам приехать: вот к чему идет речь моя. Обещаете быть в сентябре месяце, но надолго ли, that is the question[361]. Если приедете на нас только посмотреть да полюбоваться, то что в этом будет пользы! Нет, приезжайте с нами пожить да нас поучить. Зажились вы в чужой глуши; право, грех. Почем знать, может статься, бог и наградит вас за доброе дело и возвратит здоровье жене вашей на земле православной. Не поверите, как мы избаловались с тех пор, как живем без пестунов. Безначалие губит нас. Ни в печатном, ни в разговорном круге не осталось налицо никого из той кучки людей почетных, которые недавно еще начальствовали в обществе и им руководили; а если кто и уцелел, то дряхлеет где-нибудь в одиночестве ума и сердца. Все нынче толкуют у нас про направление: не направление нам надобно, а правление. Грамотка без учителей не водится. Самодельных властей у нас развелось много, но лиц с настоящим значением в просвещенном слое общества пока еще не завелось. Разумеется, когда и было у нас начальство, то, к которому и вы принадлежали, то не всегда его слушались: так всегда водилось; но все-таки присутствие людей, всеми чтимых не только за дела ума, но и за свойства душевные, было полезно и научало новичков скромности. Слово это исчезло из нашего новейшего ручного словаря. Приезжайте хоть за тем, чтобы помочь нам отыскать его. Странное дело! Никогда не видано было менее у нас смирения, как с той поры, как стали у нас многоглагольствовать про тот устав христианский, который более всех прочих уставов христианских учит смирению, который весь не что иное, как смирение. Вот пример этому. Один из ревностных служителей возвратного движения написал в прошлом году драму[362]. Хороша ли, дурна ли, до того дела нет; драма написана во славу того быта, которого будто бы сокрушила своенравная воля великого человека[363], созданного, впрочем, этим же самым бытом; это и довольно, по мнению наших приятелей, то есть сочувственников автора. Но вот ее дают на здешнем театре; и что ж! в день представления является в «Ведомостях» статья самого автора, который простодушно указывает на рукоделье свое как на образец настоящей русской драмы. Заметьте, что никого это не изумило, что никто даже и не обратил на это внимания, так оно всем показалось естественным. И немудрено; как вы хотите, чтоб безусловное поклонение одной какой-либо мысли не привело нас к поклонению тому разуму, которому одолжена она своим бытием, хотя бы этот разум и был наш собственный разум или разум наших приятелей. Voil о nous en sommes[364]. Этот автор, впрочем, умный, милый и благородный человек; но надобно же заплатить дань своему времени. Ведь и у нас есть свое время, хотя и не такое беспутное, как ваше бусурманское время.
Не знаю, показывал ли Булгаков письмо ваше нашей графине[365]; кажется, он ей только выписал те строки, которые могли польстить ее авторскому самолюбию. Я взял было его у Булгакова, с тем чтоб показать ей все письмо по старой своей привычке любить друзей своих, не только для себя, но и для них, но не знал ее дома. Должно, однако ж, признаться, что акафист ее старой плясунье[366] всех порядочных людей возмутил и здесь, и в Петербурге. Я назвал всю эту дурь le culte du jarret[367] и спрашивал Ростопчину, как это выражение перевесть по-русски, но она не сумела.
На прощанье вторично повторяю свое челобитье о возвращении вашем на родину. Худо детям жить без дядьки. Из этого и взял перо, от которого, как можете видеть, немного поотстал, а то бы не был так многословен. Прошу принять мою болтовню снисходительно и не по-учительски. Обнимаю вас от всей души и ото всего сердца. Здесь есть ваши бумаги, но не успел еще их видеть, хотя они находятся у Красных ворот.
Прощайте. Всячески вам преданный Петр Чаадаев.
А. И. Герцену[368]
Москва, 26 июля 1851
Слышу, что вы обо мне помните и меня любите. Спасибо вам. Часто думаю также о вас, душевно и умственно сожалея, что события мира разлучили нас с вами, может быть, навсегда. Хорошо бы было, если б вам удалось сродниться с каким-нибудь из народов европейских и с языком его, так чтобы вы могли на нем высказать все, что у вас на сердце. Всего бы, мне кажется, лучше было усвоить вам себе язык французский. Кроме того, что это дело довольно легкое, при чтении хороших образцов ни на каком ином языке современные предметы так складно не выговариваются. Тяжело, однако ж, будет вам расстаться с родным словом, на котором вы так жизненно выражались. Как бы то ни было, я уверен, что вы не станете жить сложа руки и зажав рот, а это главное дело. Стыдно бы было, чтоб в наше время русский человек стоял ниже Кошихина.
Благодарю вас за известные строки. Может быть, придется вам скоро сказать еще несколько слов об том же человеке, и вы, конечно, скажете, не общие места – а общие мысли. Этому человеку, кажется, суждено было быть примером не угнетения, против которого восстают люди, – а того, которое они сносят с каким-то трогательным умилением и которое, если не ошибаюсь, по этому самому гораздо пагубнее первого. (Не примите этого за общее место.[369]) Может быть, дурно выразился.
Мне, вероятно, недолго остается быть земным свидетелем дел человеческих; но, веруя искренно в мир загробный, уверен, что мне и оттуда можно будет любить вас так же, как теперь люблю, и смотреть на вас с тою же любовью, с которою теперь смотрю. Простите.
Гр<афу> Л. Ф. Орлову[370]
Граф Алексей Федорович.
Слышу, что в книге Герцена[371] мне приписывают мнения, которые никогда не были и никогда не будут моими мнениями. Хотя из слов вашего сиятельства и вижу, что в этой наглой клевете не видите особенной важности, однако не могу не опасаться, чтобы она не оставила в уме вашем некоторого впечатления. Глубоко благодарен бы был вашему сиятельству, если б вам угодно было доставить мне возможность ее опровергнуть и представить вам письменно это опровержение, а может быть, и опровержение всей книги. Для этого, разумеется, нужна мне самая книга, которой не могу иметь иначе как из рук ваших.
Каждый русский, каждый верноподданный царя, в котором весь мир видит богом призванного спасителя общественного порядка в Европе, должен гордиться быть орудием, хотя и ничтожным, его высокого священного призвания; как же остаться равнодушным, когда наглый беглец, гнусным образом искажая истину, приписывает нам собственные свои чувства и кидает на имя наше собственный свой позор?
Смею надеяться, ваше сиятельство, что благосклонно примете мою просьбу, и если не заблагорассудите ее исполнить, то сохраните мне ваше благорасположение.
Честь имею быть. .
1852
М. П. Погодину[372]
Сделайте одолжение, милостивый государь Михайло Петрович, скажите мне, где мне найти г. Кокорева? Прочитав в «Москвитянине» его Саввушку[373], я сейчас решился отыскать его, но по сю пору не мог попасть на его след, хотя многие и сказывали мне, что знают его. Видно, эти господа не принадлежат ни к тому кругу, где он живет, ни к тому, где его умеют ценить. Что касается до меня, то вижу в нем необыкновенно даровитого человека, которому нужно только стать повыше, чтоб видеть побольше. Я не люблю дагерротипных изображений ни в искусстве, ни в литературе, но здесь верность истинно художественная, что нужды, что фламанская. Нынче, знаю, иного требуют от писателя,
«Но мне, какое дело мне,
Я верен буду старине».
Тот, кто написал эти строки в заключение других, мною ему внушенных, конечно, и в этом случае разделил бы мое мнение.[374]
В ожидании милостивого вашего уведомления прошу вас принять повторение моей давнишней преданности.
Петр Чаадаев.
Извините, что забыл поздравить вас с тем, что вам наконец удалось передать в вечное потомственное владение науки ваше драгоценное собрание.
1854
С. П. Шевыреву[375]
Я на днях заходил к вам, почтеннейший Степан Петрович, чтоб поговорить с вами о Бартеньевских статьях, помещенных в «Моск. ведомостях»[376]. Вы, конечно, заметили, что, описывая молодость Пушкина и года, проведенные им в Лицее, автор статей ни слова не упоминает обо мне, хотя в то же время и вписывает несколько стихов из его ко мне послания и даже намекает на известное приключение в его жизни, в котором я имел участие, но приписывая это участие исключительно другому лицу. Признаюсь, это умышленное забвение отношений моих к Пушкину глубоко тронуло меня. Давно ли его не стало, и вот как правдолюбивое потомство, в угодность к своим взглядам, хранит предания о нем! Пушкин гордился моею дружбою; он говорит, что я спас от гибели его и его чувства, что я воспламенял в нем любовь к высокому, а г. Бартеньев находит, что до этого никому нет дела, полагая, вероятно, что обращенное потомство, вместо стихов Пушкина, будет читать его Материялы. Надеюсь, однако ж, что будущие биографы поэта заглянут и в его стихотворения.
Не пустое тщеславие побуждает меня говорить о себе, но уважение к памяти Пушкина, которого дружба принадлежит к лучшим годам жизни моей, к тому счастливому времени, когда каждый мыслящий человек питал в себе живое сочувствие ко всему доброму, какого бы цвета оно ни было, когда каждая разумная и бескорыстная мысль чтилась выше самого беспредельного поклонения прошедшему и будущему. Я уверен, что настанет время, когда и у нас всему и каждому воздастся должное, но нельзя же между тем видеть равнодушно, как современники бесчестно прячут правду от потомков. Никому, кажется, нельзя лучше вас, в этом случае, заступиться за истину и за минувшее поколение, которого теплоту и бескорыстие сохраняете в душе своей; но если думаете, что мне самому должно взяться за покинутое перо, то последую вашему совету (хотя и с риском дать Бартеньеву новый довод в пользу того, что не следует придавать особой важности дружескому расположению ко мне Пушкина)[377]. В среду постараюсь зайти к вам из клуба[378], за советом.
Искренно и душевно
преданный вам
Петр Чаадаев.
Написав эти строки, узнал, что Г. Б. оправдывает себя тем, что, говоря о лицейских годах друга моего, он не полагал нужным говорить о его отношениях со мною, предоставляя себе упомянуть обо мне в последующих статьях. Но неужто Г. Б. думает, что встреча Пушкина, в то время когда его могучие силы только что стали развиваться, с человеком, которого впоследствии он назвал лучшим своим другом, не имела никакого влияния на это развитие? Если не ошибаюсь, то первое условие биографа есть знание человеческого сердца.
Выписка из письма неизвестного к неизвестной. 1854[379]
Нет, тысячу раз нет – не так мы в молодости любили нашу родину. Мы хотели ее благоденствия, мы желали ей хороших учреждений и подчас осмеливались даже желать ей, если возможно, несколько больше свободы; мы знали, что она велика и могущественна и богата надеждами; но мы не считали ее ни самой могущественной, ни самой счастливой страною в мире. Нам и на мысль не приходило, чтобы Россия олицетворяла собою некий отвлеченный принцип, заключающий в себе конечное решение социального вопроса, – чтобы она сама по себе составляла какой-то особый мир, являющийся прямым и законным наследником славной восточной империи, равно как и всех ее прав и достоинств, – чтобы на ней лежала нарочитая миссия вобрать в себя все славянские народности и этим путем совершить обновление рода человеческого; в особенности же мы не думали, что Европа готова снова впасть в варварство и что мы призваны спасти цивилизацию посредством крупиц этой самой цивилизации, которые недавно вывели нас самих из нашего векового оцепенения. Мы относились к Европе вежливо, даже почтительно, так как мы знали, что она выучила нас многому, и между прочим – нашей собственной истории. Когда нам случалось нечаянно одерживать над нею верх, как это было с Петром Великим, – мы говорили: этой победой мы обязаны вам, господа. Результат был тот, что в один прекрасный день мы вступили в Париж, и нам оказали известный вам прием, забыв на минуту, что мы, в сущности, – не более как молодые выскочки и что мы еще не внесли никакой лепты в общую сокровищницу народов, будь то хотя бы какая-нибудь крохотная солнечная система, по примеру подвластных нам поляков, или какая-нибудь плохонькая алгебра, по примеру этих нехристей-арабов, с нелепой и варварской религией которых мы боремся теперь. К нам отнеслись хорошо, потому что мы держали себя как благовоспитанные люди, потому что мы были учтивы и скромны, как приличествует новичкам, не имеющим других прав на общее уважение, кроме стройного стана. Вы повели все это по-иному, – и пусть; но дайте мне любить мое отечество по образцу Петра Великого, Екатерины и Александра. Я верю, недалеко то время, когда, может быть, призна́ют, что этот патриотизм не хуже всякого другого.
Заметьте, что всякое правительство, безотносительно к его частным тенденциям, инстинктивно ощущает свою природу, как сила одушевленная и сознательная, предназначенная жить и действовать; так, например, оно чувствует или не чувствует за собою поддержку своих подданных. И вот, русское правительство чувствовало себя на этот раз в полнейшем согласии с общим желанием страны; этим в большой мере объясняется роковая опрометчивость его политики в настоящем кризисе[380]. Кто не знает, что мнимо национальная реакция дошла у наших новых учителей до степени настоящей мономании? Теперь уже дело шло не о благоденствии страны, как раньше, не о цивилизации, не о прогрессе в каком-либо отношении; довольно было быть русским; одно это звание вмещало в себе все возможные блага, не исключая и спасения души. В глубине нашей богатой натуры они открыли всевозможные чудесные свойства, неведомые остальному миру; они отвергали все серьезные и плодотворные идеи, которые сообщила нам Европа; они хотели водворить на русской почве совершенно новый моральный строй, который отбрасывал нас на какой-то фантастический христианский Восток, придуманный единственно для нашего употребления, нимало не догадываясь, что, обособляясь от европейских народов морально, мы тем самым обособляемся от них и политически, что, раз будет порвана наша братская связь с великой семьей европейской, ни один из этих народов не протянет нам руки в час опасности. Наконец, храбрейшие из адептов новой национальной школы не задумались приветствовать войну, в которую мы вовлечены, видя в ней осуществление своих ретроспективных утопий, начало нашего возвращения к хранительному строю, отвергнутому нашими предками в лице Петра Великого. Правительство было слишком невежественно и легкомысленно, чтобы оценить, или даже только понять, эти ученые галлюцинации. Оно не поощряло их, я знаю; иногда даже оно наудачу давало грубый пинок ногою наиболее зарвавшимся или наименее осторожным из их блаженного сонма; тем не менее оно было убеждено, что, как только оно бросит перчатку нечестивому и дряхлому Западу, к нему устремятся симпатии всех новых патриотов, принимающих свои неоконченные изыскания, свои бессвязные стремления и смутные надежды за истинную национальную политику, равно как и покорный энтузиазм толпы, которая всегда готова подхватить любую патриотическую химеру, если только она выражена на том банальном жаргоне, какой обыкновенно употребляется в таких случаях. Результат был тот, что в один прекрасный день авангард Европы очутился в Крыму.[381]






