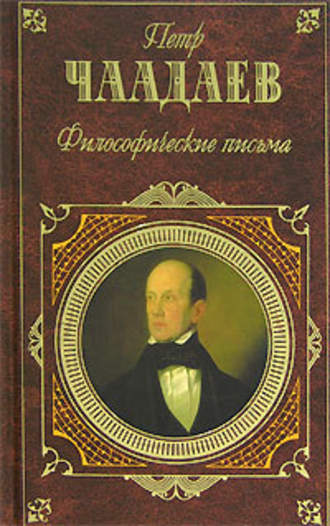
Петр Чаадаев
Философические письма (сборник)
А. И. Тургеневу
Я только что узнал, дорогой друг, что вы скоро возвращаетесь. Это мне подало мысль попросить вас привезти мне несколько книг, которых здесь найти нельзя. Прежде всего, историю Гогенштауфенов Раумера и сочинения Гегеля. Я думаю, что ни то, ни другое произведение не запрещено. Вы возьмете их, конечно, у Грефа, и вам не придется за них платить, так как у него открыт для меня кредит, к тому же у него, как мне кажется, еще лежит на комиссии одно из моих сочинений. Затем, не найдете ли вы английский религиозный кипсек и исследование по философии индусов Колеброка, перевод Тольтье. Наконец, привезите мне побольше французских и немецких каталогов. После этого мне остается только пожелать вам всего лучшего, но раз перо у меня в руках, то я еще добавлю несколько слов.
Передайте, пожалуйста, Мейендорфу, что я глубоко огорчен тем, что с ним случилось, как бы ничтожно ни было это происшествие[220]. Я надеюсь, что сумеют, наконец, дать должную оценку тому злосчастному обороту мысли, который сорвался совершенно бессознательно с его пера, и что в нем увидят лишь преувеличенный комплимент, которым принято награждать любого автора любой рукописи. Нет человека, который более чем Мейендорф расходился бы со мной во взглядах. Во всей этой истории, которая приняла такой серьезный оборот, нет и следа серьезных убеждений, кроме убеждений самого автора, да и то убеждений более философского характера, уже отчасти проржавевших и готовых уступить место более современным, более национальным. Во всяком случае, из всех печальных последствий моей наивной уступчивости более всего огорчают меня беспокойства, причиняемые другим. Меня часто называли безумцем, и я никогда не отрекался от этого звания и на этот раз говорю – аминь, – как я всегда это делаю, когда мне на голову падает кирпич, так как всякий кирпич падает с неба. И вот я снова в своей Фиваиде, снова челнок мой пристал к подножию креста, и так до конца дней моих; скажу еще раз: «буди, буди».
Пусть я безумец, но надеюсь, что Пушкин примет мое искреннее приветствие с тем очаровательным созданием, его побочным ребенком, которое на днях дало мне минуту отдыха от гнетущего меня уныния[221]. Скажите ему, пожалуйста, что особенно очаровало меня в нем его полная простота, утонченность вкуса, столь редкие в настоящее время, столь трудно достижимые в наш век, век фатовства и пылких увлечений, рядящийся в пестрые тряпки и валяющийся в мерзости нечистот, подлинная блудница, в бальном платье и с ногами в грязи. Иван Иванович[222] находит, что старый немецкий генерал был бы удачнее в качестве исторического лица, ведь эпоха-то глубоко историческая; я, пожалуй, с ним согласен, но это мелочь. Скажите еще Пушкину, что я погружен в историю Петра Великого, читаю Голикова и счастлив теми открытиями, которые я делаю в этой неведомой стране. Было вполне естественно для меня укрыться у великого человека, который кинул нас на Запад, и просить его защиты; но, признаюсь, я не ожидал найти его ни таким гигантом, ни столь расположенным ко мне.
Ну, будьте здоровы. Меня заливают сплетни: это ваша область; придите же и скажите этому морю: «стой, не далее!» Ваше повеление, конечно, будет исполнено, и я с тем большим удовольствием вас обниму.
Безумный.[223]
NB. Нельзя ли найти в Петербурге портрет Беррье? Сегодня утром я прочитал его речь в парламенте, и седая голова моя склонилась перед этим грозным словом.
1837
Л. М. Цынскому[224]
Милостивый государь, Лев Михайлович.
Несколько слов, написанных мною вчера у вашего превосходительства об моих сношениях с госпожою Пановой, мне кажется, недостаточны для объяснения этого обстоятельства, и потому позвольте мне объяснить вам оное еще раз. Я познакомился с госпожою Пановой в 1827 году в подмосковной, где она и муж ее были мне соседями. Там я с нею видался часто, потому что в бездействе находил в этих свиданиях развлечение. На другой год, переселившись в Москву, куда и они переехали, продолжал с нею видеться. В это время господин Панов занял у меня 1000 руб., и около того же времени от жены его получил я письмо, на которое отвечал тем, которое напечатано в «Телескопе», но к ней его не послал, потому что писал его довольно долго, а потом знакомство наше прекратилось. Между тем срок по векселю прошел, и я не получил ни капитала, ни процентов. Спустя, кажется, еще год подал я вексель ко взысканию и получил от госпожи Пановой другое письмо, довольно грубое, в котором она меня упрекала в моем поступке. В 1834 году передал я вексель купцу Лахтину за 800 руб. Все это время я не видался с ними и даже не знал, где они находятся. Прошлого года госпожа Панова вдруг известила меня, что она здесь, и с легкомыслием объявила мне, что вексель будучи выплачен, она желает возобновить со мной знакомство, на что я отвечал, что готов ее видеть. Тогда она приехала ко мне с мужем и тут впервые узнала о существовании письма, к ней написанного и давно всем известного. Мы в это время еще раза два виделись; потом она уехала в Нижний, и более я ее не видал. Надобно еще знать, что прочие, так называемые мои философические, письма написаны как будто к той же женщине, но что г. Панова об них никогда даже не слыхала.
Что касается до того, что эта несчастная женщина теперь в сумасшествии говорит, например, что она республиканка, что она молилась за поляков, и прочий вздор, то я уверен, что если спросить ее, говорил ли я с ней когда-либо про что-нибудь подобное, то она, несмотря на свое жалкое положение, несмотря на то, что почитает себя бессмертною и в припадках бьет людей, конечно, скажет, что нет. Сверх того, и муж ее то же может подтвердить.
Все это пишу к вашему превосходительству потому, что в городе много говорят об моих сношениях с нею, прибавляя разные нелепости, и потому, что я, лишенный всякой ограды, не имею возможности защитить себя ни от клеветы, ни от злонамерения. Впрочем, я убежден, что мудрое правительство не обратит никакого внимания на слова безумной женщины, тем более что имеет в руках мои бумаги, из которых можно ясно видеть, сколь мало я разделяю мнения ныне бредствующих умствователей.
Честь имею быть,
милостивый государь,
с истинным почтением
вашего превосходительства
покорнейший слуга Петр Чаадаев.
1837, января 7
М. Я. Чаадаеву[225]
Благодарю тебя, любезный брат, за твое доброе участие в моем приключении. Я никогда не сомневался в твоей дружбе, но в этом случае мне особенно приятно было найти ее новое доказательство. Ты желаешь знать подробности этого странного происшествия, для того чтоб мне быть полезным; наперед тебе сказываю, делать тут нечего, ни тебе и никому другому, но вот ведь как оно произошло. Издателю «Телескопа» попался как-то в руки перевод одного моего письма, шесть лет тому назад написанного и давно уже всем известного; он отдал его в цензуру; цензора не знаю как уговорил пропустить; потом отдал в печать и тогда только уведомил меня, что печатает. Я сначала не хотел тому верить, но, получив отпечатанный лист и видя в самой чрезвычайности этого случая как бы намек провидения, дал свое согласие. Статья вышла без имени, но тот же час была мне приписана или, лучше сказать, узнана, и тот же час начался крик. Чрез две недели спустя издание журнала прекращено, журналист и цензор призваны в Петербург к ответу; у меня по высочайшему повелению взяты бумаги, а сам я объявлен сумасшедшим. Поражение мое произошло 28-го октября, следовательно, вот уже три месяца, как я сошел с ума. Ныне издатель сослан в Вологду, цензор отставлен от должности, а я продолжаю быть сумасшедшим. Теперь, думаю, ясно тебе видно, что все произошло законным порядком и что просить не о чем и некого.
Говорят, что правительство, поступив таким образом, думало поступить снисходительно; этому очень верю, ибо нет в том сомнения, что оно могло поступить несравненно хуже. Говорят также, что публика крайне была оскорблена некоторыми выражениями моего письма, и это очень может статься; странно, однако ж, что сочинение, в продолжение многих лет читанное и перечитанное в подлиннике, где, разумеется, каждая мысль выражена несравненно сильнее, никогда никого не оскорбляло, в слабом же переводе всех поразило! Это, я думаю, должно отчасти приписать действию печати: известно, что печатное легче разбирать писаного.
Вот, впрочем, настоящий вид вещи. Письмо написано было не для публики, с которою я никогда не желал иметь дела, и это видно из каждой строки оного; вышло оно в свет по странному случаю, в котором участие автора ничтожно; журналист, очевидно, воспользовался неопытностью автора в делах книгопечатания, желая, как он сам сказывал, «оживить свой дремлющий журнал или похоронить его с честию»; наконец, дело все принадлежит издателю, а не сочинителю, которому, конечно, не могло прийти в голову явиться перед публикою в дурном переводе, в то время как он давным-давно пользовался на другом языке, и даже не в одном своем отечестве, именем хорошего писателя. Итак, правительство преследует не поступок автора, а его мнения. Тут естественно приходит на мысль то обстоятельство, что эти мнения, выраженные автором за шесть лет тому назад, может быть, ему вовсе теперь не принадлежат и что его образ мыслей, может быть, совершенно противоречит прежним его мнениям, но об этом, по-видимому, правительство не имело времени подумать и даже второпях не спросило автора, признает ли он себя автором статьи или нет. Правда, что при всем том на авторе лежит ответственность за согласие, легкомысленно им данное, то есть за одни эти слова: «пожалуй, печатайте»; но спрашивается: могут ли одни эти слова составить «corpus delicti»[226], и если могут, то соразмерно ли наказание с преступлением? На это, думаю, отвечать довольно трудно.
Что касается до моего положения, то оно теперь состоит в том, что я должен довольствоваться одною прогулкою в день и видеть у себя ежедневно господ медиков, ex officio[227] меня навещающих. Один из них, пьяный частный штаб-лекарь, долго ругался надо мною самым наглым образом, но теперь прекратил свои посещения, вероятно по предписанию начальства. Приятели мои посещают меня довольно часто, и некоторые из них поступают с редким благородством; но всего утешительнее для меня дружба моих милых хозяев[228]. Бумаг по сих пор не возвращают, и это всего мне чувствительнее, потому что в них находятся труды всей моей жизни, все, что составляло цель ее. Развязки покамест не предвижу, да и признаться, не разумею, какая тут может быть развязка? Сказать человеку «ты с ума сошел» немудрено, но как сказать ему «ты теперь в полном разуме»? Окончательно скажу тебе, мой друг, что многое потерял я невозвратно, что многие связи рушились, что многие труды останутся неоконченными и, наконец, что земная твердость бытия моего поколеблена навеки.
С. Л. Пушкину
Очень благодарю вас, дорогой Пушкин, за вашу память обо мне. Позвольте мне оставить у себя до завтра письмо Жуковского[229]. Мне хочется показать его Орлову, одному из самых горячих поклонников нашего славного покойного. Мне только что вернули мои бумаги, среди которых я нашел письмо Александра, пробудившее вновь все мои сожаления. Это письмо – единственное, сохранившееся из всех многочисленных писем, которые он писал мне в разные эпохи своей жизни, и я счастлив, что нашел его. Итак, до завтра с письмом Жуковского.
Искренно преданный вам
Чаадаев.
И. Д. Якушкину
19 октября 1837
Тому год назад, мой друг, что я писал к тебе[230]; это было в то самое время, как мы узнали, что вы скоро будете перемещены и что вперед можно будет с вами переписываться. Я тебя скромно поздравлял с этим видоизменением в твоем положении и просил тебя дать нам о себе известий. По несчастию, это письмо затерялось два раза самым странным образом: в первый раз по милости ревнивой любви твоей свекрови[231], страстно берегущей монополию твоей дружбы, во второй – вследствие случившегося со мной в это время приключения, которое я тебе поскорее перескажу, чтобы с этим сразу покончить и очистить совесть. Дело в том, что с некоторого времени я начал писать о различных религиозных предметах. В продолжение долгого уединения, наложенного мною на себя по возвращении из-за границы, то, что́ я писал, оставалось неизвестным; но как только я покинул мою Фиваиду и снова появился в свете, все мое маранье сделалось известным и скоро приобрело тот род благосклонного внимания, который так легко отдается всякому неизданному сочинению. Мои писанья стали читать; их переписывали; они сделались известны вне России, и я получил несколько лестных отзывов от некоторых литературных знаменитостей. Некоторые отрывки из них были переведены на русский язык; появилась даже серьезная книга, вся исполненная моими мыслями, которые мне откровенно и приписывали[232]. Но вот, в один прекрасный день, один московский журналист, журнал которого печально перебивался, усмотрев, не знаю где, одну из моих самых горячих страниц, получил, не знаю как, позволение цензора и поместил ее в свой журнал. Поднялся общий шум; издание журнала прекращено, редактор сначала потребован в Петербург, потом сослан в Вологду; цензор отставлен от должности, мои бумаги захвачены, и наконец я сам, своей особой, объявлен сумасшедшим…….и по особенной милости, как говорят. Итак, вот я сумасшедшим скоро уже год, и впредь до нового распоряжения. Такова, мой друг, моя унылая и смешная история. Ты понимаешь теперь, отчего мое письмо до тебя не дошло. Дело в том, что оно приняло совершенно другую дорогу и что я его больше не видал[233]. Я, впрочем, льщу себя надеждой, что оно не совсем осталось без плода для тех, кому оно попало законной добычей, потому что, если я не ошибаюсь, в нем заключались вещи, годные для их личного вразумления. Поговорим теперь о другом.
Тебе, без сомнения, известно, что твоя двоюродная сестра[234], от времени до времени, показывает мне твои письма; твоя свекровь, когда на меня не дуется, также сообщает мне те, которые ты к ней пишешь: стало быть, я довольно знаю о всем, что́ тебя касается. Я знаю, с каким благородным мужеством ты сносишь тяжесть своей судьбы; я знаю, что ты предаешься серьезному изучению, и удивляюсь многочисленным и твердым знаниям, приобретенным тобою в ссылке. Не могу тебе выразить, сколько я всем этим счастлив и сколько я горжусь, что так хорошо тебя угадывал. Есть старое изречение, мой друг, несколько, впрочем, отзывающееся язычеством, а именно что нет прекраснее зрелища, как зрелище мудреца в борьбе с противным роком; но меня еще более увлекает исполненный ясности взгляд, который ты устремляешь на мир из своего безотрадного одиночества. Вот чего высокомерная древность не умела открыть – и что́ верный ум естественным образом находит в наше время. Однако же хоть я и не знаю, какие теперь твои религиозные чувствования, но, признаюсь тебе, не могу поверить, чтобы к этому душевному спокойствию ты пришел путем того оледеняющего деизма, который исповедовали умы твоей категории тогда, когда мы расстались. Изучения, которым ты с тех пор отдавался, должны были тебя привести к серьезным размышлениям над самыми важными вопросами нравственного порядка, и невозможно, чтобы ты окончательно остался при том малодушном сомнении, дальше которого деизм никогда шагнуть не может. К тому же естественные науки в настоящее время далеко не враждебны религиозным верованиям; поэтому я ласкаю себя надеждой, что ясность твоего понимания скоро даст тебе увидеть те истины, к которым они тяготеют. Я даже должен тебе сказать, что в том затерянном письме, о котором я тебе сейчас говорил, я уже себе позволил, по случаю книги Беккереля, которая должна была сопровождать это письмо, мимоходом заметить тебе, что все недавние открытия в науке, открытия по части электричества в особенности, служат к поддержке христианских преданий, подтверждают космогоническую систему Библии. Когда-нибудь мы опять воротимся к этим предметам, но до того я бы хотел знать, известны ли тебе сочинения Кювье, потому что ничто не может нам служить лучшею точкою отправления в наших философских рассуждениях, как его геологические труды. В первый раз, как будешь ко мне писать, скажи мне об этом.
Прошу у тебя извинения, мой друг, в том, что это первое мое письмо все наполнено моими обычными помыслами (préoccupations), но ты понимаешь, что в теперешнее время мне труднее, чем когда-либо, освободиться от влияния идей, составляющих весь интерес моей жизни, единственную опору моего опрокинутого существования. Я далек, однако же, от мысли навязывать тебе свои мнения; мне известен склад твоего ума, и я очень хорошо знаю, что ни годы, ни размышление, ни опыт жизни, по которой прошло неизмеримое бедствие и неизмеримое поучение, не в состоянии существенно видоизменить ум, подобный твоему; но я знаю также, что время, в которое мы живем, слишком проникнуто тем возрождающим током (fluide régénérateur), который произвел уже столь удивительные результаты во всех сферах человеческого знания, чтобы твой ум, как бы он ни был географически удален от всяких очагов умственного движения, мог остаться совершенно чуждым его влиянию. Ты, как только мог, следовал за ходом современных идей: пробегаемая тобою орбита, несмотря на всю ее эксцентричность, все-таки определяется законом всемирного тяготения всех предметов к одному центру и освещается тем же самым солнцем, которое сияет на все человечество; стало быть, ты не мог много отстать от остального мира. Но как бы то ни было, конечно, в одном ты будешь одинакового со мною мнения, а именно что мы не можем сделать ничего лучшего, как держаться, сколько то возможно, в области науки; в настоящее время мне ничего больше и не надо. Прощай же, мой друг.
А. И. Тургеневу[235]
С истинным удовольствием прочел я, мой друг, твое сочинение. Мне чрезвычайно приятно было видеть, с какою легкостию ты обнял этот трудный предмет, присвоил себе все новейшие открытия науки и приложил их к нему. Отрывок твой, по моему мнению, отличается новостию взгляда, верностию в главных чертах и занимательным изложением; но я не могу не сделать некоторых замечаний на последние строки, где ты касаешься вещей, для меня весьма важных, и излагаешь такие мнения, которых мне никак нельзя оставить без возражения. Впрочем, я доволен и этими строками, потому что и в них вижу то новое благое направление всеобщего духа, за которым так люблю следовать и которое мне столь часто удавалось предупреждать. Итак, приступим к делу.
Ты, по старому обычаю, отличаешь учение церковное от науки. Я думаю, что их отнюдь различать не должно. Есть, конечно, наука духа и наука ума, но и та и другая принадлежат познанию нашему, и та и другая в нем заключаются. Различны способ приобретения и внешняя форма, сущность вещи одна. Разделение твое относится к тому времени, когда еще не было известно, что разум наш не все сам изобретает и что, для того только, чтоб двинуться с места, ему необходимо надобно иметь в себе нечто, им самим не созданное, а именно орудия движения, или, лучше сказать, силу движения. Благодаря новейшей философии, в этом, кажется, ни один мыслящий человек более не сомневается: жаль, что не всякий это помнит. Вообще, это ветхое разделение, которое противоставляет науку религии, вовсе не философское, и позволь мне также сказать, несколько пахнет XVIII столетием, которое, как тебе самому известно, весьма любило провозглашать неприступность для ума нашего истин веры и, таким образом, под притворным уважением к учениям церкви скрывало вражду свою к ней. Отрывок твой написан совершенно в ином духе, но по тому самому противоречие между мыслию и языком тем разительнее. Впрочем, надо и то сказать, с кем у нас не случается мыслить современными мыслями, а говорить словами прошлого времени и наоборот? и это очень естественно: как нам поспеть всеми концами вкруг нашего огромного, несвязного бытия за развитием бытия тесно сомкнутого, давно устроенного народов Запада, потомков древности? – Невозможно.
События допотопные, рассказанные в книге Бытия, как тебе угодно, совершенно принадлежат истории, разумеется мыслящей, которая, однако ж, есть одна настоящая история. Без них шествие ума человеческого неизъяснимо; без них всякий подвиг искупления не имеет смысла, а, собственно, так называемая философия истории вовсе невозможна. Сверх того, без падения человека нет ни психологии, ни даже логики; все тьма и бессмыслица. Как понять, например, происхождение ума человеческого и, следовательно, его закон, если не предположить, что человек вышел из рук творца своего не в том виде, в каком он себя теперь познает? К тому же должно заметить, что пред чистым разумом нет повествования, достовернее нам рассказанного в первых главах Священного писания, потому что нет ни одного столь проникнутого той истиной непременной, которая превыше всякой другой истины, а особенно всякой просто исторической. Конечно, это рассказ, и рассказ весьма простодушный, но вместе с тем и высочайшее умозрение, и потому поверяется не критикою обыкновенною, а законами разума. Наконец, если сказание библейское о первых днях мира есть не что иное для христианина, как песнопение вдохновенного свидетеля мироздания, то для исследователя древности оно есть древнейшее предание рода человеческого, глубоко постигнутое и стройно рассказанное. Как же может оно принадлежать одному духовному учению, а не истории вообще? И выбросить его из первобытных летописей мира – не значит ли то же, что выбросить первое действие из какой-нибудь эпопеи? Да и как можно в начальном учении, где каждый пропуск невозвратен, где каждое слово имеет отголосок по всей жизни учащегося, не говорить на своем месте, то есть в истории сотворения, о первой, так сказать, встрече человека с богом, то есть о сотворении его умственного естества? Как можно приступить к истории рода человеческого, не сказав, откуда взялся род человеческий? Как можно начать науку со второй или с третьей главы этой науки?
Молодой ум, который желаешь приготовить к изучению истории, должно так направить, чтобы все последующие его понятия, к этой сфере относящиеся, могли необходимым образом проистекать из первоначальных понятий, а для этого, мне кажется, надобно непременно говорить обо всем там и тогда, где следует; иначе ни под каким видом не будет логического развития. Вспомни, в какое время ум человеческий приобрел те власти, те орудия, которыми нынче так мощно владеет. Не тогда ли, когда все основное учение было учение духовное, когда вся наука созидалась на теологии, когда Аристотель был почти отец церкви, а св. Ансельм Кентерберийский – знаменитейший философ своего времени? Конечно, нам нельзя, каждому у себя дома, все это переначать; но мы можем воспользоваться этими великими поучениями, но мы не должны добровольно лишать себя богатого наследия, доставшегося нам от веков протекших и от народов чуждых. Кто-то сказал, что нам, русским, недостает некоторой последовательности в уме и что мы не владеем силлогизмом Западa[236]. Нельзя признать безусловно это резкое суждение о нашей умственности, произнесенное умом огорченным, но и нельзя также его совсем отвергнуть. Никакого нет в том сомнения, что ум наш так составлен, что понятия у нас не истекают необходимым образом одно из другого, а возникают поодиночке, внезапно и почти не оставляя по себе следа. Мы угадываем, а не изучаем; мы с чрезвычайною ловкостию присваиваем себе всякое чужое изобретение, а сами не изобретаем; мы постепенности не знаем ни в чем; мы схватываем вдруг, но зато и многое из рук выпускаем. Одним словом, мы живем не продолжительным размышлением, а мгновенной мыслию. Но отчего это происходит? Оттого, что мы не последовательно вперед подвигались; оттого, что мы на пути нашего беглого развития иное пропускали, другое узнавали не в свое время и, таким образом, очутились, сами не зная как, на том месте, на котором теперь находимся. Если же мы желаем не шутя вступить на поприще беспредельного совершенствования человечества, то мы должны непременно стараться все будущие наши понятия приобретать со всевозможною логическою строгостию и обращать всего более внимания на методу учения нашего. Тогда, может быть, перестанем мы хватать одни вершки, как то у нас по сих пор водилось; тогда раскроются понемногу все силы гибких и зорких умов наших; тогда родятся у нас и глубокомыслие, и стройная дума: тогда мы научимся постигать вещи во всей их полноте и наконец сравняемся, не только по наружности, но и на самом деле, с народами, которые шли иными стезями и правильнее нас развивались, а может статься, и быстро перегоним их, потому что мы имеем пред ними великие преимущества, бескорыстные сердца, простодушные верования, потому что мы не удручены, подобно им, тяжелым прошлым, не омрачены закоснелыми предрассудками и пользуемся плодами всех их изобретений, напряжений и трудов.
Ты говоришь еще, что должно в молчании благоговеть пред премудростию божиею. Не могу не сказать тебе, мой друг, что и это также не что иное, как обветшалый оборот прошлого столетия. Благоговеть пред премудростию божиею, конечно, должно, но зачем в молчании? Нет, должно чтить ее не с безгласным, а с полным разумением, то есть с глубокою мыслию в душе и с живым словом на устах. Премудрость божия никогда не имела в виду соделывать из нас бессловесных животных и лишать нас того преимущества, которое отличает нас от прочих тварей. Откровение не для того излилось в мир, чтобы погрузить его в таинственную мглу, а для того, чтоб озарить его светом вечным. Оно само есть слово; слово же вызывает слово, а не безмолвие. Скажи, где написано, что властитель миров требует себе слепого или немого поклонения? Нет, он отвергает ту глупую веру, которая превращает существо разумное в бессмысленную тварь; он требует веры, преисполненной зрения, гласа и жизни. Се же есть живот вечный, говорит апостол, да знают тебе единого бога[237]. Если же вера есть не что иное, как познание божества, то сам посуди, не сущее ли богохулие именем веры проповедовать бессмыслие?
В заключение скажу, никак не должно забывать, что разум наш не из одного того составлен, что он сам открыл или выдумал, но изо всего того, что он знает. Какое до того дело, откуда и каким образом это знание в него проникло? Иное он приобрел несознательно, а теперь постигает с полным сознанием; другое усвоил себе вековыми усилиями и трудами, а ныне пользуется им механически; но и то и другое принадлежит ему неотъемлемо, и то и другое взошло навсегда в его состав. Одним словом, разум, или, лучше сказать, дух, один на небеси и на земли; невидимые излияния мира горьнего на дольний, с первой минуты сотворения того и другого, никогда не прекращаясь, всегда сохраняли между ними вечное тождество; когда же совершилось полное откровение или воплощение божественной истины, тогда совершилось также и сочетание обоих миров в одно неразделимое целое, которое в сущности своей никогда более раздроблено быть не может, ни умозрением надменной мечтательности, ни строптивым своеволием ума, преисполненного своею личностию, ни произвольным отречением развращенного сердца. Всемирный дух, обновленный новою высшею мыслию, ее более отвергнуть не в силах, ею дышит, ею живет, ею руководствуется и, вопреки всех восстаний разнородных титанов, деистов, пантеистов, рационалистов и прч., торжественно продолжает путь свой и влечет за собою род человеческий к его высокой цели.
Вот, мой друг, что я хотел тебе сказать; но еще раз повторяю, с особенным удовольствием прочел я твой занимательный отрывок и от всей души желаю, чтоб ты продолжал свой труд.
Безумный.
1837, октября 30






