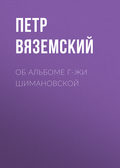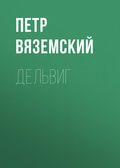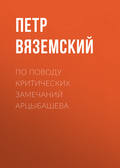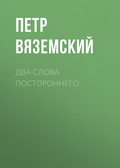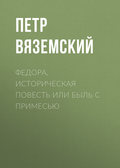Петр Вяземский
Старая записная книжка. Часть 1
Один Михаил Орлов, приятель его, имел смелость и силу, свойственную породе Орловых, выбить однажды дверь кабинета его и вломиться к нему. Он пробыл с ним несколько часов, но, несмотря на все увещевания свои, не мог уговорить его выйти из своего добровольного затворничества.
По управлению имением его оказались беспорядки и притеснения крестьянам, разумеется, не со стороны помещика-невидимки, а разве со стороны управляющих. Рассказывают, что один из дворовых его, больно высеченный приказчиком и знавший, что граф обыкновенно в такой-то час бывает у окна, выставил на показ ему, в виде жалобы, если не совсем поличное, то очевидное доказательство нанесенного ему оскорбления. Неизвестно, какое последовало решение на эту оригинальную жалобу; но вскоре затем крестьяне и дворовые жаловались высшему начальству на претерпеваемые ими обиды. Наряжено было и пошло следствие; над имением его и над ним самим назначена была опека.
Его перевезли в Москву. Тут прожил он многие годы в бедственном и болезненном положении. Так грустно тянулась и затмилась жизнь, которая началась таким блистательным и многообещающим утром. Есть натуры, которые, при самых благоприятных и лучших задатках и условиях, как будто не в силах выдерживать и, так сказать, переваривать эти задатки и условия. Самая благоприятность их обращается во вред этим исключительным и загадочным натурам. Кого тут винить? Недоумеваешь и скорбишь об этих несчастных счастливцах.
* * *
Говорили однажды о неудобстве и неприличности выставлять целиком в истории, особенно отечественной, события, которые могут породить в читателях и в обществе невыгодные впечатления и заключения: например, суд Петра Великого над сыном, во всей обстановке и со всеми подробностями.
«Конечно, – сказал NN, – исполнение исторической обязанности может в некоторых случаях быть тяжело для добросовестного и мягкосердечного историка. Но что же делать! Что было, то было, а следовательно, и есть. Нельзя же очищать, полоть историю как засеянную гряду. Перед нами пример Библии. Конечно, очень прискорбно для человечества, что, так сказать, на другой день миросоздания, когда всего было только четыре человека на земле, в числе четырех уже нашелся братоубийца; но однако же первый летописец человеческого рода не признал нужным утаить это события от сведения потомства».
* * *
Американец Толстой говорит о ***. «Кажется, он довольно смугл и черноволос, а в сравнении с душой его он покажется блондином».
Однажды в английском клубе сидел перед ним барин с красно-сизым и цветущим носом. Толстой смотрел на него с сочувствием и почтением; но, видя, что во все продолжение обеда барин пьет одну чистую воду, Толстой вознегодовал и говорит: «Да это самозванец! Как смеет он носить на лице своем признаки им незаслуженные?»
* * *
Г-жа Б. не любила, когда спрашивали ее о здоровье. «Уж увольте меня от этих вопросов, – отвечала она, – у меня на это есть доктор, который ездит ко мне и которому плачу 600 рублей в год».
* * *
На берегу Рейна предлагали А. Л. Нарышкину взойти на гору, чтобы полюбоваться окрестными живописными картинами. «Покорнейше благодарю, – отвечал он, – с горами обращаюсь всегда, как с дамами: пребываю у их ног».
* * *
В старые годы один иностранный министр был от двора своего аккредитован при Гамбургском Сенате. Ему понадобились деньги. Он просил от Сената дать ему взаймы довольно круглую сумму. Сенат отказал. «Да какое же я при вас аккредитованное лицо, – сказал он с упреком президенту Сената, – если не пользуюсь никаким кредитом?»
* * *
Чудак, но умный и образованный чудак, Балк-Полев был министром нашим при Бразильском дворе. Он рассердился на сапожника своего, который подал ему несообразный счет. Вслед за тем просил он аудиенцию у императора, явился к нему, изложил свою жалобу и хотел вручить императору счет сапожника для рассмотрения. Счет, разумеется, не был принят. Тогда раздосадованный Балк швырнул императору счет в ноги и вышел из кабинета. Вскоре затем был он отозван и уволен в отставку. Вот что можно назвать приключением a propos de bottes.
Он был очень горяч с прислугой своей и доходил с нею до рукоприкладства. Однажды на бале его в Москве у Григория Корсакова пошла кровь из носу. Он отправился в Петербург!» Коляска помчалась. Доехав до Невского проспекта, Константин Павлович приказал кучеру остановиться, а Раевскому сказал: «Теперь милости просим, изволь выходить!» Можно представить себе картину: Раевский в халате, пробирающийся пешком сквозь толпу многолюдного Невского проспекта.
Какую мораль вывести из этого рассказа? А вот какую: не должно никогда забываться перед высшими и следует строго держаться этого правила вовсе не из порабощения и низкопоклонства, а напротив – из уважения к себе и из личного достоинства.
Майор старого времени дивился в начале нынешнего столетия развязности молодых офицеров в отношении к начальству. «В наше время, – говорил он, – было не так. Однажды представлялся я фельдмаршалу графу Румянцеву-Задунайскому. «Что скажешь новенького?» – спросил он меня. А я поклонился да молчу. Граф, чем-то, по-видимому, озабоченный, изволил задумчиво ходить по комнате. Проходя мимо меня, он несколько раз повторял тот же вопрос, а я все по-прежнему: поклонюсь да и молчу. Наконец он сказал: если будешь все молчать, то можешь и убираться прочь. Я поклонился и вышел».
Пример этого майора и пример Раевского вдаются в крайности; но если непременно выбирать один из двух, то лучше следовать первому, чем второму: в поклонах и молчании майора более благоразумия, даже личного достоинства, нежели в халатной бесцеремонности Раевского.
* * *
Великий князь Константин Павлович очень любил театр. Охотно и часто присутствовал он в Варшаве на спектаклях польских и французских. Как на одной, так и на другой сцене были превосходные актеры. Великий князь особенно благоволил к ним и вообще милостиво с ними обращался.
Французский комик Мере (Mairet) был увлекателен: нельзя было быть умнее и глупее его в ролях простачков. Он часто смешил своей важностью и серьезностью. Шутка его никогда не доходила до шутовства и скоморошества. Он схватывал натуру живьем и передавал ее зрителям в истинном, но вместе с тем и высокохудожественном выражении.
Вот настоящее искусство актера: быть истинным до обмана или обманчивым до истины. Великий князь очень ценил дарование Мере и любил его личность.
Однажды бедный Мере, по недогадке, очутился между рядами солдат на Саксонской площади, во время парада, в присутствии великого князя. На парадном плацу и во время развода его высочеству было не до шутки. Всеобъемлющим взглядом своим усмотрел он Мере и, как нарушителя военного благочиния, приказал свести его на гауптвахту. Разумеется, задержание продолжалось недолго: после развода великий князь велел выпустить его.
На другой день Мере разыгрывал в каком-то водевиле роль солдата национальной гвардии, которому капитан грозит арестом за упущение по службе. «Нет, это уже чересчур скучно (говорит Мере, разумеется, от себя): вчера на гауптвахте, сегодня на гауптвахте; это ни на что не похоже!»
Константин Павлович смеялся этой шутке, но, встретясь с актером, сказал ему: «Ты, кажется, напрашиваешься на третий арест».
* * *
Жулкевский был отличный актер. Особенно удавались ему роли старопольские. Он с особенным, национальным выражением носил кунтуш и шапку, например, в комедии Schkoda wacow (Жаль усов). Игра его в этих ролях доходила почти до политического заявления.
На польской сцене не только в разговорах, но и в одежде, в ухватках, в танцах, например, польском, мазурке, прорываются иногда сами собой предания, отголоски Речи Посполитой; между представлениями на сцене и зрителями пробегают таинственные, неуловимые токи национального электричества. Все это воодушевляет сцену и дает сценическому представлению самобытный, народный характер.
Жулкевский, актер сочувственный варшавской публике, был вместе с тем сочувственным ей издателем маленькой газетки, шутливой и сатирической. Тут, разумеется, труднее было ему пропускать свою народовую струю; но изредка освежал он ею свою жаждущую газетку.
Однажды напечатал он, что «Польша погибнет без Познанья», т. е. без Прусской Познани (игра слов). Великий князь призвал его к себе и цензурно помыл ему голову, хотя цензуры тогда в Царстве Польском, по буквальному значению конституции, не было. Отпуская его, внушил он ему вперед не задирать соседей. Когда после спросили Жулкевского, зачем призывал его Великий князь, тот отвечал: «Мы имели переговоры о Познани; великий князь предлагал мне взамен Киев (опять игра слов: т. е. koiw, палок), но сделка не состоялась, и все кончилось миролюбиво».
* * *
Однажды донесли великому князю, что какой-то французский актер произнес где-то в каве (кофейном доме) или огрудке (публичном саду) предосудительные политические слова. Его высочество посылает за ним, делает ему порядочную и на будущее время предостерегательную нотацию и с тем и отпускает его. Тот, вышедши, возвращается через несколько секунд и высовывает голову в дверь.
«Чего тебе еще надобно?» – спрашивает великий князь. «А не может ли ваше высочество сказать мне имя негодяя, который донес на меня?» – «А зачем тебе знать?» – «Чтобы мог я дать ему хорошую потасовку».
* * *
Ум великого князя склонен был к шутливости. Он сам бойко и остро говорил на русском языке и на французском. Он понимал шутку и охотно принимал ее, даже и тогда, когда была обращена она к нему самому.
В прежнее время дежурные адъютанты всегда бывали приглашаемы к обеду его. После эти приглашения прекратились. В числе польских адъютантов его был Мицельский, образованный и умный молодой человек, неистощимый на меткие и забавные слова. Великий князь очень ценил ум его и любезность. «Нет ли у тебя, Мицельский, чего-нибудь новенького? Расскажи!» – «Есть, ваше высочество; но долго рассказывать: ужо за обедом сообщу».
Великий князь расхохотался и позвал его обедать.
* * *
Когда граф Бенкендорф явился в первый раз к великому князю в жандармском мундире, он встретил его вопросом: «Savary ou Fouche?» – «Savary, honnete homme», – отвечал Бенкендорф. «Ah, ca ne varie pas!» – сказал Константин Павлович. (Непереводимая игра слов. Савари и Фуше были оба министрами полиции при Наполеоне I. Савари пользовался общим уважением, Фуше напротив.)
* * *
Польский генерат Гельгуд носил стеклянный глаз. Перед каким-то праздником Васинька Апраксин говорит, что ему пожалуют глаз с вензелем. При этом же случае говорил он, что Куруте будет пожаловано прекрасное издание в великолепном переплете Жизней знаменитых мужей Плутарха.
* * *
Женское сердце – темная книга; как ни читай, ни перечитывай ее в разных и многочисленных изданиях, а до всего не дочитаешься. Все, кажется, идет и читается просто, вдруг встретятся такие неожиданности, такие неправдоподобия, что разом срежет: становишься в тупик, и переворачиваются вверх дном все прежние испытания и нажитые сведения.
Была в Петербурге в начале двадцатых годов красивая, богатая, высокорожденная невеста, яркая звезда на светском небосклоне. Влюбился в нее молодой человек, принадлежавший также высшему обществу. Он стал ухаживать за ней и, казалось, не совсем безуспешно: молодая девица отличала его между другими. На балах долгие танцы, как бесконечный котильон, о котором граф Фикельмон сказал:
Cette image mobile
De rimmobile eternite[7]
– почти всегда их соединяли. Частые котильоны двух молодых людей были в своем роде предварительные помолвки. Однажды весной, теплой ночью, окна в одной большой зале были открыты на улицу. Счастливая чета сидела у одного из этих окон. Может быть, этот бал был решительный, и близок уже был обмен признаний и сердечных заверений. Вдруг проезжает по улице ночная колесница, которой приближение еще скорее угадывается обонянием, нежели слухом. На лице девушки скоропостижно выразились смущение и неприятное чувство. С этой минуты разговор с ее стороны постепенно падал и впал в совершенное молчание.
В изумлении своем молодой человек не мог истолковать себе причину подобной перемены. Спрашивать объяснения у нее он не смел. В следующие дни он грустно убедился, что эта перемена совершилась безвозвратно. Она все более и более чуждалась его, и наконец все отношения между ними как наотрез прекратились.
Приятельница ее, которая следила за первыми главами романа, спросила ее с удивлением, чему должно приписать такой неожиданный и крутой перерыв.
«Брезгливости и впечатлительности обоняния моего, – отвечала она смеясь. Тут рассказала она ночной проезд злосчастной колесницы. – Что же мне делать, – прибавила она, – если с той самой минуты образ его и воспоминания о нем неразлучно связались с запахом, который так неприятно поразил меня в тот вечер?»
Года два спустя вышла она замуж, разумеется, за другого; но вскоре после того скончалась во цвете лет и в полном блеске светской обстановки. Он умер гораздо позднее холостяком, не зная до самой кончины своей, что именно расстроило счастье, которое ему так приветливо улыбалось.
Будет ли ему загробная разгадка? Не уповательно. Если и верить, что некоторым земным тайнам будет разъяснение за рубежом земным, как-то трудно предполагать, что двум действующим лицам недоконченного романа придется войти в объяснение по такому неблаговидному и неблагодушному вопросу.
* * *
А вот причуда мужского сердца. Молодой поляк, принадлежавший образованной общественной среде, проезжал через Валдай. В то блаженное время не было еще ни железной дороги, ни даже шоссе, не было ни дилижансов, ни почтовых карет.
Коляску проезжего обступила толпа женщин и девиц и назойливо навязывала свои баранки. Поляк влюбился в одну из продавщиц. Не думав долго, решился он остановиться в Валдае. Медовый месяц любви его продолжался около двух лет. Родные, не получая писем его, начали беспокоиться и думали, что он без вести пропал. Узнав, в чем дело, писали они с увещеваниями возвратиться домой. Письма не действовали. Наконец приехали за ним родственники и силой вырвали его из объятий этой Валдайской Калипсо.
Вот любовь так любовь: роман на большой дороге, выходящий из ряда обыкновенных приключений. При встречах моих с ним в Варшаве, я всегда смотрел на него с особенным уважением и сочувствием.
* * *
Есть лгуны, которых совестно называть лгунами: они своего рода поэты, и часто в них более воображения, нежели в присяжных поэтах. Возьмите, например, князя Ц. Во время проливного дождя является он к приятелю. «Ты в карете?» – спрашивают его. «Нет, я пришел пешком». – «Да как же ты вовсе не промок?» – «О, – отвечает он, – я умею очень ловко пробираться между каплями дождя».
Императрица Екатерина отправляет его курьером в Молдавию к князю Потемкину с собольей шубой. Нечего уже и говорить о быстроте, с которой проехал он это пространство: подобные курьерские рассказы впадают в обыкновенную и пошлую прозу. Он приехал, подал Потемкину письмо императрицы. Прочитав его, князь спрашивает: «А где же шуба?» – «Здесь, ваша светлость!» – и тут вынимает он из своей курьерской сумки шубу, которая так легка была, что уложилась в виде носового платка. Он встряхнул ее раза два и подал князю.
В трескучий мороз идет он по улице. Навстречу ему нищий, весь в лохмотьях, просит у него милостыню. Он в карман, ан денег нет. Он снимает с себя бекеш на меху и отдает ее нищему, сам же идет далее. На перекрестке чувствует он, что кто-то ударил его по плечу. Он оглядывается. Господь Саваоф перед ним и говорит ему: «Послушай, князь, ты много согрешил; но этот поступок твой один искупит многие грехи твои: поверь мне, я никогда не забуду его!»
Польский граф Красинский был также вдохновенным и замысловатым поэтом в рассказах своих. Речь его была жива и увлекательна. Видимо, он сам наслаждался своими импровизациями.
Бывают лгуны как-то добросовестные, боязливые, они запинаются, краснеют, когда лгут. Эти никуда не годятся.
Как говорится, что надобно иметь смелость мнения своего (le courage de son opinion), так нужно иметь и смелость своей лжи; в таком только случае она удается и обольщает.
Две приятельницы (рассказывал Красинский) встретились после долгой разлуки где-то неожиданно на улице. Та и другая ехали в каретах. Одна из них. не заметив, что стекло поднято, опрометью кинулась к нему, пробила стекло головой, но так, что оно насквозь перерезало ей горло и голова скатилась на мостовую перед самой каретой ее искренней приятельницы.
Одного умершего положили в гроб, который заколотили и вынесли в склеп в ожидании отправления куда-то на семейное кладбище. Через несколько времени гроб открывается. Что же тому причиной? – «Волосы, – отвечает граф Красинский, – и борода; так разрослись у мертвеца, что вышибли покрышку гроба».
Граф был блестящей храбрости, но вдохновение было еще храбрее самого действия. После удачного и смелого нападения на неприятеля, совершенного конным полком под его командой, прискакивает к нему на месте сражения Наполеон и говорит: «Vincent je te dois la соигоппе» (Винцент, я награждаю тебя звездой), и тут же снимает с себя звезду Почетного Легиона и на него надевает. «Как же вы никогда не носите этой звезды?» – спросил его один простодушный слушатель. Опомнившись, Красинский сказал: – «Я возвратил ее императору, потому что не признавал действия моего достойным подобной награды».
Однажды занесся он в рассказе своем так далеко и так высоко, что, не зная как выпутаться, сослался для дальнейших подробностей на Вылежинского, адъютанта своего, тут же находившегося. «Ничего сказать не могу, – заметил тот. – Вы, граф, вероятно забыли, что я был убит при самом начале сражения».
* * *
В старину Лунин (Петр Михайлович) был известен в Москве и Петербурге своим краснословием, тоже никому не обидным, а только каждому забавным. Но этот к слову прилагал иногда и дело.
После многолетнего пребывания за границей возвращается он в Москву. Генерал-губернатор, давнишний приятель его, князь Д. В. Голицын приглашает его на большой и несколько официальный обед. Перед обедом кто-то замечает хозяину дома, что у Лунина какая-то странная орденская пряжка на платье. Князь Голицын, очень близорукий, подходит к нему и, приставя лорнетку к глазу, видит, что на этой пряжке звезды всех российских орденов, не исключая и Георгиевской. «Чем это ты себя, любезнейший, разукрасил?» – спросил его князь со своим известным отрывистым смехом. «Ах, это дурак Николашка, камердинер мой, все это мне пришпилил». – «Хорошо, – сказал князь, – но все же лучше снять». Разумеется, так и было сделано.
* * *
Лев Пушкин (брат Александра) рассказывал, что однажды зашла у него речь с Катениным о Крылове. Катенин сильно нападал на баснописца и почти отрицал дарование его. Пушкин, разумеется, опровергал нападки. Катенин, известный самолюбием своим и заносчивостью речи, все более и более горячился.
«Да у тебя, верно, какая-нибудь личность против Крылова». – «Нисколько. Сужу о нем и критикую его с одной литературной точки зрения». Спор продолжался. «Да он и нехороший человек, – сорвалось у Катенина с языка. – При избрании моем в Академию этот подлец, один из всех, положил мне черный шар»
* * *
Александр Пушкин был во многих отношениях внимательный и почтительный сын. Он готов был даже на некоторые самопожертвования для родителей своих, но не в его натуре было быть хорошим семьянином: домашний очаг не привлекал и не удерживал его. Он во время разлуки редко писал к родителям, редко и бывал у них, когда живал с ними в одном городе.
«Давно ли видел ты отца?» – спросил его однажды NN. «Недавно». – «Да как ты понимаешь это? Может быть, ты недавно видел его во сне?»
Пушкин был очень доволен этой уверткой и, смеясь, сказал, что для успокоения совести усвоит ее себе.
Отец его, Сергей Львович, был также в своем роде нежный отец, но нежность его черствела в виду выдачи денег. Вообще был он очень скуп и на себя, и на всех домашних. Сын его, Лев, за обедом у него разбил рюмку. Отец вспылил и целый обед проворчал. «Можно ли, – сказал Лев, – так долго сетовать о рюмке, которая стоит двадцать копеек?» – «Извините, сударь, – с чувством возразил отец. – не двадцать, а тридцать пять копеек!»
* * *
«Я недаром презираю людей, – говорил кто-то, – это стоит мне несколько сот тысяч рублей, которые роздал я неблагодарным».
* * *
Графиня Хотек, бабушка нынешнего принца Клари, который владеет Теплицем и женат на нашей полусоотечественнице графине Фикельмон, оставила по себе записки. Главнейшее содержание их относится до поездки из Вены в Венецию в 1782 г. их императорских высочеств великого князя Павла Петровича и великой княгини Марии Федоровны, или графа и графини Северных. Граф Хотек был назначен австрийским императором к их высочествам, а жена его последовала за ним.
Извлекаем из этих доселе остающихся в рукописи записок (сообщенных нам принцем Клари) некоторые подробности, не лишенные занимательности. К сожалению, в этих записках мало нескромностей, которыми прилакомили нас новейшие летописи, в этом роде изданные. Вообще в старое время было более совестливости, застенчивости и опасения проговориться; чем выше было поставлено лицо, тем осторожнее и сдержаннее отзывались о нем даже и в дневниках, не писанных для публики, а единственно для себя. Вот тому пример.
«Не помню названия того местечка, где мы обедали (говорит между прочим графиня Хотек), но очень помню замечательный разговор наш с великой княгиней. Я была удивлена доверенностью, с которой она обращалась ко мне после восьмидневного знакомства. Доверенность эта не будет обманута: слышанное мною в этот день никогда не выйдет из памяти моей и никому другому известно не будет (jamais ce que j'entendis ce jourla ne sortira de ma memoire, ni ne sera su que de moi)».
Это очень почтенно, оно и очень досадно. Открывается обширное поле догадок, но нигде нельзя с достоверностью остановиться.
Графиня Хотек с большим уважением и сочувствием говорит о великом князе и особенно о великой княгине, с которой она и чаще была, и ближе имела случай ознакомиться.
«Великий князь благоволил прочесть нам несколько отрывков из дневника своего, замечательно хорошо написанных».
«Однажды великая княгиня прервала, по счастью, чтение газет и рассказала нам много в высшей степени занимательных подробностей о своей молодости, воспитании, о своем образе мыслей, о легкости и понятливости своей, так что девяти лет она знала геометрию».
«Перед ужином великая княгиня читала нам вслух некоторые места Похвального слова Плиния Траяну. Выбор отрывков и выразительность, с которой она читала, равно говорили в пользу ума ее и сердца».
В России императрица оставила по себе память о своей благотворительности и строгой точности, с которой исполняла она добровольно принятые ею на себя обязанности по управлению воспитательными и богоугодными заведениями; она была администратор в высшем и полном значении этого слова, пример и образец всем администраторам. Но мы мало знаем частные свойства ума ее, образованность его и богатые начала, на которые этот ум опирался. Приведенные заметки несколько пополняют этот пробел. Лести здесь быть не может.
«За обедом сидела я возле великого князя: речь зашла о жизни и разных возрастах ее. «Затвердите в памяти своей слова мои, – сказал он мне, – я не достигну до сорока пяти лет». В словах его, думаю, не было никакого намека и задней мысли, а просто имел он в виду слабость сложения своего».
«После обеда заговорили о музыке. Император Австрийский и великий князь пропели дилетантами (dilettants de lualite) арию из оперы Орфей и Альцеста».
Не знаем, что за голос был у Иосифа II, но, по преданиям, голос великого князя был, вероятно, не очень музыкален.
В свите их высочеств находились майор Плещеев, Бенкендорф с женой, доктор Крузе, девица Teodossi Basilio (вероятно, какая-нибудь Федосья Васильевна), Брюнетта (Brunette), камер-юнфера Бермоте, парикмахер, фрейлины Нелидова и Борщова. К свите принадлежали, но отправлялись всегда днем позже, Салтыков с женой. князья Куракин и Юсупов, и Вадковский.
Из слов графини Хотек можно предполагать, что великая княгиня не очень жаловала эту дополнительную свиту, со включением Нелидовой и Борщовой. Вот что говорит графиня Хотек: «приезд их (т. е. выше поименованных лиц), видимо, был неприятен великой княгине. Она всегда хотела быть с одной г-жой Бенкендорф. Не желая ужинать с ними, она велела подать себе что-нибудь закусить, сказав, что за ужин не сядет. Но есть не было никакой возможности: мы обедали в три часа, а было не позднее шести часов, так что я в этот день легла в постель голодная».
Вот несколько подробностей о пребывании в Венеции.
«Рано отправилась я к графине Северной, чтобы иметь честь сопровождать ее в Арсенал. Мы пробыли в нем шесть часов, осматривая в подробности все достойное замечания. Более всего поразила нас кузница. Она очень обширна и при нас была озарена сиянием раскаленного якоря в 5000 фунтов, на который врезали крест. Работами в Арсенале занимаются ежедневно 2000 человек. Они редко выходят из арсенальной ограды, задельную плату получают умеренную, но зато вдоволь вина, смешанного с двумя третями воды. Раздача эта делается в большом порядке: что нечаянно перейдет через край, спускается в большой чан и тоже выпивается. Большие залы были украшены трофеями, орудиями, прекрасными и редкими свежими цветами в честь великой княгини, которая очень их любит. Кавалеру Эмо было поручено объяснить их высочествам все предметы, возбуждавшие любознательность их. Он – во главе морского управления и очень уважаем в Венеции за познания свои по этой части.
После спустили в воду бученторе, на котором мы находились. Движение было чуть заметное, так что одни крики и восклицания народа дали нам почувствовать, что мы сдвинулись с места. Бученторе покрыт позолотой и ваяниями. На краю корабля изображен св. Марко, покровитель и угодник Венеции. Против него, на другой стороне, кресло, на котором восседает дож в праздник Вознесения Господня; спинка спускается, и оттуда дож бросает кольцо в море. При нас кидали одни устричные раковины, потому что угощали нас арсенальскими устрицами, пользующимися обшей известностью. Особенно удивило меня в тот день уважение, которое внушает толпе каждый служитель полиции. В ту минуту, когда мы взошли на бученторе, пробежал по толпе шум, который итальянцы называют sussuro (шушуканье). Один из fant dell'inquisitione надел на голову красный колпак, украшенный червонцем и вынутый из кармана, и мгновенно воцарилась такая тишина, что можно бы услышать полет мухи».
Праздники, данные для высочайших гостей, отличались роскошью и пышностью, а по местным условиям Венеции и поразительной своеобразностью. Венеция город декорационный, словно нарочно выстроенный для празднеств, особенно ночных. Синее небо, вода, палаццы, храмы, подвижное, пестрое народонаселение так и просятся в эту роскошную раму волшебной картины. Был великолепный бал в театре святого Венедикта. В Италии и театры сооружаются под покровом святых. Что сказал бы высокопреосвященный Филарет, если бы в Москве обозначили новое здание театра именем, взятым из святцев? Он, который не хотел освятить Триумфальные ворота, потому что на них изображены какие-то аллегорические баснословные фигуры, и ходатайствовал о запрещении оперы Моисей и о снятии с магазина надписи на вывеске: au pauvre diable (известной французской поговорки), так что на вывеске долго оставалось au pauvre и точки.
Была регата, гонка гондол и легких судов. Венецианская аристократическая молодежь снаряжает щегольские, красивые восьмивесельные лодки. Матросы одеты с большим разнообразием и вкусом; хозяин барки – на коленях на подушках или лежит на них. В руках имеют они маленькие луки, из которых стреляют катышками теста, чтобы удалять барки, не принадлежащие к регате. Для их императорских высочеств (рассказывает графиня Хотек) устроена была особенная крытая лодка, которую называют peotte, очень красиво убранная. Вдоль большого канала все окна домов были обвешаны богатыми коврами; из всех окон выглядывали лица. Народа везде было множество; на крышах стояли люди в красных плащах. Гондолы и барки, наполненные дамами в масках, скользили и шмыгали вдоль и поперек. Веселость народа, восклицания, крики мальчишек-шалунов, гул, гам, все это вместе порождает впечатление, которое выразить нельзя: нужно самому быть зрителем такой живой и воодушевленной картины, чтобы понять всю ее самобытную и странную прелесть.
Оригинальнейший из всех был праздник, устроенный на площади св. Марка, месте единственном в своем роде. Ни величавый Рим, ни живописный Царьград не имеют ничего подобного. Зала, обведенная стенами стройных и высоких зданий под открытым небом, а в глубине ее величественная громада храма св. Марка. Впрочем, эта площадь, начиная с вечера и далеко за полночь, имеет ежедневно праздничный вид. Это сборное место всех венецианских полуночников и полуночниц. Тут и высшая аристократия, и полуодетая чернь, аббаты и красавицы со всех ступеней общественной лестницы, и строгая мать с целомудренной дочерью, и все возможные дочери без матерей и без целомудрия. Эта площадь может сказать с Державиным:
А я, проспавши до полудня,
Курю табак и кофе пью;
Преобращая в праздник будни,
Кружу в химерах мысль мою.
Но возвратимся к графине Хотек. Вот что говорит она об этом вечернем и ночном празднике. «Перед зданием прокураторов построили прекрасное деревянное помещение с тремя комнатами, богато убранными, с позолотой и зеркалами, как будто все это построено на продолжительное время, а не на несколько часов. Остальная часть площади была обставлена амфитеатром и приготовлена для иллюминации и фейерверка. Праздник начался проездом пяти аллегорических колесниц. После был бег быков, преследуемых собаками. Это продолжалось довольно долго и было довольно посредственно и скучно; но нужно было чем-нибудь занять зрителей до темноты, т. е. до освещения и сожжения потешных огней. Вид площади был очаровательный и восхитительный. В известный час народ был впущен на арену; в течение нескольких минут нахлынуло до пятнадцати тысяч человек. Все они гуляли, не толпясь, не теснясь, без малейшего шума, нимало не беспокоя сидящих на скамейках. Непонятно было при подобном наплыве и движении, как могли обойтись без солдат, чтобы сдерживать такую толпу. Венецианцы очень гордятся этим добровольным порядком, свидетельствующим о кротости правительства; но подобные тишина и спокойствие в народе, который от природы так подвижен и жив, могут быть и следствием страха, и в таком случае служит свидетельством совершенно противоположным.