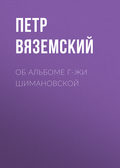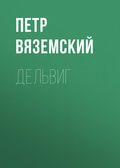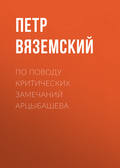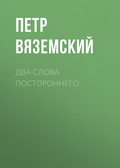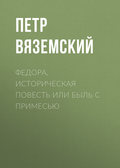Петр Вяземский
Старая записная книжка. Часть 1
Великая княгиня уезжала домой ужинать. В отсутствии ее был дан великолепный ужин всему дворянству. Когда великая княгиня возвратилась, начались танцы. Вообще с трудом можно привыкнуть к манерам и кокетству (чтобы не сказать более) венецианских дам. Особенно же в танцах разные их ужимки и ухватки таковы, что и на театре показались бы очень неуместными. Но со стороны смотреть на это очень любопытно и забавно. В особенности есть у них национальная пляска furlana, которая не очень благопристойна.
На этом бале имела я честь откланяться ее высочеству. Она и великий князь удостоили меня самыми лестными и ласковыми выражениями. Великой княгине очень хотелось, чтобы я оставалась при ней во время дальнейшего путешествия, и она намеревалась писать о том императору; но обстоятельства не дозволяли мне согласиться на это предложение. Граф и графиня Северные отправились в Падую».
* * *
Дуэт, пропетый великим князем Павлом Петровичем и Австрийским императором (о котором говорено выше), напоминает мне другой дуэт, еще более оригинальный и который отклонил от России войну против Англии. Следующий рассказ передается со слов графа Растопчина, лично слышанных.
Император Павел очень прогневался однажды на английское министерство. В первую минуту гнева посылает он за графом Растопчиным, который заведовал в то время внешними делами. Он приказывает ему изготовить немедленно манифест о войне с Англией. Растопчин, пораженный как громом такой неожиданностью, начинает, со свойственной ему откровенностью и смелостью в отношениях к государю, излагать перед ним всю несвоевременность подобной войны, все невыгоды и бедствия, которым может она подвергнуть Россию. Государь выслушивает возражения, но на них не соглашается и им не уступает. Растопчин умоляет императора по крайней мере несколько обождать, дать обстоятельствам возможность и время принять другой, более благоприятный оборот. Все попытки, все усилия министра напрасны: Павел, отпуская его, приказывает ему поднести на другой день утром манифест к подписанию.
С сокрушением и скрепя сердце, Растопчин вместе с секретарями своими принимается за работу. Приехав, спрашивает он у приближенных, в каком духе государь. При дворе хотя тайны, по-видимому, и хранятся герметически закупоренными, но все же частичками они выдыхаются, разносятся по воздуху и след свой в нем оставляют. Все приближенные к государю лица, находившиеся в приемной перед кабинетом комнате, ожидали с взволнованным любопытством и трепетом исхода этого доклада. Он начался.
По прочтении некоторых бумаг государь спрашивает: «А где же манифест?» – «Здесь», – отвечает Растопчин (он уложил его на дно портфеля, чтобы дать себе время осмотреться и, как говорят, ощупать почву). Дошла очередь и до манифеста. Государь очень доволен редакцией. Растопчин пытается опять отклонить царскую волю от меры, которую признает пагубной; но красноречие его так же безуспешно, как и накануне. Император берет перо и готовится подписать манифест…
Тут блеснул луч надежды зоркому и хорошо изучившему государя глазу Растопчина. Обыкновенно Павел скоро и как-то порывисто подписывал имя свое. Тут он подписывает медленно, как бы рисует каждую букву. Затем говорит он Растопчину: «А тебе очень не нравится эта бумага?» – «Не умею и выразить, как не нравится». – «Что готов ты сделать, чтобы я ее уничтожил?» – «А все, что будет угодно вашему величеству. Например, пропеть арию из итальянской оперы». Тут он называет арию, особенно любимую государем, из оперы, имя которой не упомню.
«Ну так пой!» – говорит Павел Петрович. И Растопчин затягивает арию с разными фиоритурами и коленцами. Император подтягивает ему. После пения он раздирает манифест и отдает лоскутки Растопчину.
Можно представить себе изумление тех, которые в соседней комнате ожидали с тоскливым нетерпением, чем разразится этот доклад.
* * *
В одном маленьком французском журнале рассказываются два следующие анекдота из царствования Павла.
Паж Копьев бился об заклад с товарищами, что он тряхнет косу императора за обедом. Однажды, будучи при нем дежурным за столом, схватил он государеву косу и дернул ее так сильно, что государь почувствовал боль и гневно спросил, кто это сделал. Все в испуге. Один паж не смутился и спокойно отвечал: «Коса вашего величества криво лежала, я позволил себе выпрямить ее». – «Хорошо сделал, – сказал государь, – но все же мог бы ты сделать это осторожнее». Тем все и кончилось.
В другой раз Копьев бился об заклад, что он понюхает табаку из табакерки, которая была украшена бриллиантами и всегда находилась при государе. Однажды утром подходит он к столу возле кровати императора, почивающего на ней, берет табакерку, с шумом открывает ее и, взяв щепотку табаку, с усиленным фырканьем сует в нос. «Что ты делаешь, пострел?» – с гневом говорит проснувшийся государь. «Нюхаю табак, – отвечает Копьев. – Вот восемь часов что дежурю; сон начинал меня одолевать. Я надеялся, что это меня освежит, и подумал лучше провиниться перед этикетом, чем перед служебной обязанностью». – «Ты совершенно прав, – говорит Павел, – но как эта табакерка мала для двух, то возьми ее себе».
Анекдот о косе известен в России; но, кажется, смелую шалость эту приписывали князю Александру Николаевичу Голицыну. Другой анекдот не очень правдоподобен, но, вероятно, и он перешел к французам из России. Не ими же выдуман он. Откуда им знать Копьева? Копьев был большой проказник, это известно. Что он не сробел бы выкинуть такую шутку, и это не подлежит сомнению; но был ли он в том положении, чтобы подобная проказа была доступна ему? Вот вопрос. И ответ, кажется, должен быть отрицательный. Сколько нам известно, Копьев никогда не был камер-пажом и по службе своей не находился вблизи ко Двору.
Копьев был столько же известен в Петербурге своими остротами и проказами, сколько и худобой своей крепостной и малокормленной четверни. Однажды ехал он по Невскому проспекту, а Сергей Львович Пушкин (отец поэта) шел пешком по тому же направлению. Копьев предлагает довезти его. «Благодарю (отвечал тот), но не могу; я спешу»
* * *
Уваров (Федор Петрович) иногда удачно поражал французов на поле сражения, но еще удачнее и убийственнее поражал французский язык в разговоре. Охота была смертная, а участь горькая. Известен ответ его Наполеону, когда тот спросил его, кто командовал русской конницей в блестящей атаке в каком-то сражении: – Je, sire.
Граф Головкин, родившийся и воспитывавшийся за границей, плохо говорил по-русски, но любил иногда щеголять своим отечественным языковедением. Когда собирался он ехать послом в Китай, кто-то подслушал разговор двух этих личностей. Уваров: «Je vous en prie, mon neveu a la Kitay». Головкин: «Непременно, непременно приму его на Хину».
* * *
Нелединский не был исключителен в оценке человеческих побуждений и в разрешении психических задач. Однажды говорили о лихоимстве и взятках. Разумеется, никто их не защищал; «о вот что сказал Нелединский: «Мне часто бывает совестно, когда, допрашивая себя, приговариваю к законному наказанию подсудимого взяточника. Я имею твердое и сознательное убеждение, что миллионами рублей не подкупить ни в каком деле голоса моего в Сенате; но приди ко мне красавица и умоляй она меня со слезами подать голос в пользу ее по делу, подлежащему рассмотрению Сената: я не уверен, что могу всегда устоять против сердечного обольщения. А такое обольщение не та же уступка совести и посягательства на правосудие?»
* * *
В царствование императора Павла, вследствие какого-то беспорядка при разъезде карет, граф Кутайсов требовал, чтобы кучер Неелова был немедленно отправлен в полицию. «Помилуйте, ваше сиятельство, – возразил Неелов, – дайте мне хотя домой доехать; а после отдам кучера в полное ваше распоряжение: можете, пожалуй, ему и лоб забрить».
* * *
Говорили в Москве (в начале 1820 годов) о полицмейстере, и кто-то заметил, что он не знает французского языка. «Как не знает, знает очень хорошо, – сказал Неелов. – Каждое утро, когда соберутся у него полицейские чиновники, и дает он им приказания свои, он всегда оканчивает французским романсом и поет им:
Vous me quittez pour a la gloire
Mon tendre coeur suivra partout vos pas.
Alles, volez au temple de memoire:
Alles, volez, mais ne m'oubliez pas.
(Вы покидаете меня ради славы; мое нежное сердце будет всегда с вами.)».
Неелов – основатель стихотворческой школы, последователями которой были Мятлев и Соболевский; только вообще он был скромнее того и другого. В течение едва ли не полувека малейшее житейское событие в Москве имело в нем присяжного песнопевца. Шуточные и сатирические стихи его были почти всегда неправильны, но зато всегда забавны, остры и метки. В обществе, в Английском клубе, на балах, он по горячим следам импровизировал свои четверостишия. Попробуем выручить у своевольной Музы его хоть что-нибудь, чтобы дать не знавшим ее понятие о том, чем забавляла она современников. Вот что писал он родственнице, у которой намеревался остановиться по приезде своем в Москву:
Племянница моя, княгиня Горчакова,
Которая была всегда страх бестолкова,
Пожалуйста, пойми меня ты в первый раз
И на стихи мои ты вытаращи глаз.
Приеду я один, без моего семейства,
Квартира мне нужна не как адмиралтейство;
Но комната одна, аршина в три длины,
Где б мог я ночью спать, не корчивши спины.
А вот и любовные его стихи:
Если Леля взглянет,
Из жилета тянет
Мое сердце вон.
Солнцев был представлен Юсуповым в камергеры. В Петербурге нашли, что по чину его достаточно ему и звания камер-юнкера. Но Солнцев, кроме того, что уже был в степенных летах, пользовался еще вдоль и поперек таким объемистым туловищем, что юношеское звание камер-юнкерства никак не подходило ни к лицу его, ни к росту. NN говорил, что он не только сановит, но и слоновит. Князь Юсупов сделал новое представление на основании физических уважений, которое и было утверждено: Солнцев наконец пожалован ключом. Вся это проделка не могла ускользнуть его летописца, подобного Неелову. Он записал в свой Московский Временник следующее четверостишие:
Чрез дядю, брата или друга
Иной по службе даст скачек:
Другого вывезет сестра или супруга.
Но он стал камергер чрез собственный пупок.
* * *
Отчего, после несчастного приключения своего, X. стал еще спесивее и более думает о себе, чем прежде?
«На основании русской пословицы, – сказал NN, – за битого двух небитых дают».
* * *
В старых комедиях французских встречаются благотворительные дяди из Америки, которые неожиданно падают золотым дождем на бедных родственников и тем дают им возможность соединяться браками с предметами их любви. В старой Москве являлись благодетельные дяди: известные дотоле богатые помещики, которые как снег на голову падали из какой-нибудь дальней губернии. Они поселялись в Москве и угощали ее своим хлебосольством, увеселениями и праздниками.
Один из последних таковых дядей был Позняков. Он приехал в первопрестольную столицу потешать ее своими рублями и крепостным театром. Он купил дом на Никитской (ныне принадлежащий князю Юсупова), устроил в нем зимний сад, театральную залу с ложами и зажил, что называется, домом и барином: пошли обеды, балы, спектакли, маскарады. Спектакли были очень недурны, потому что в доморощенной труппе находились актеры и певцы не без дарований.
Часто смеялись и смеются и ныне над этими полубарскими затеями. Они имели свою и хорошую сторону. Уж если есть законное крепостное состояние, то устройство из дворни своей певческих хоров, инструментальных оркестров и актеров не есть еще худшее самовластительное злоупотребление помещичьего права. Эти затеи прививали дворне некоторое просвещение, по крайней мере грамотность; если не любовь к искусствам, то по крайней мере ознакомление с ними. Это все-таки развивало в простолюдинах человеческие понятия и чувства, смягчало нравы и выводило дворовых людей на Божий свет; они затверживали наизусть слова и мысли Фон-Визина или Коцебу, сливались хотя на минуту с лицами из другой среды, на минуту воплощали в себя лица, так сказать, другого мира. От этого скоморошества должны были неминуемо западать в них некоторые благие семена, которые в иных оставались не произрасти-тельными, а в других, хотя и редко, отзывались впоследствии плодоносной жатвой. Эти полубарские затеи могли иметь и на помещиков благодетельное влияние: музыка, театральные представления отвлекали их отчасти от псовой охоты, карт и попоек. Но пора возвратиться к Познякову.
Нечего и говорить, что на балах его, спектаклях и маскарадах не было недостатка в посетителях: вся Москва так и рвалась и навязывалась на приглашения его.
Да и кому в Москве не зажимали рты
Обеды, ужины и танцы?
говорит Чацкий. Только напрасно сваливает он это исключительно на голову Москвы.
Таков, Фелица, я развратен,
Но на меня весь свет похож,
сказал Державин, которого взгляд на свет и на людей был беспристрастнее и рассудительнее взгляда Чацкого. Как бы то ни было, Позняков самодовольно угощал Москву в своих покоях и важно на маскарадах своих расхаживал наряженный не то персианином, не то китайцем. Нет сомнения, что о нем говорится в Горе от Ума:
На лбу написано: театр и маскарад.
Не забыл Грибоедов и бородача, который во время бала, в тени померанцевых деревьев, щелкал соловьем:
Певец зимой погоды летней.
Все это очень забавно, но что же тут худого?
Если кому Бог даровал способность свистать и щелкать соловьем, почему же ему не пользоваться этим даром, как певцу голосом своим, скрипачу смычком? Но вот что ускользнуло от эпиграмм и злоречия Чацкого, а в этом есть высоко-комическая черта.
К московскому хлебосольству и увеселителю добровольно прикомандировал себя некто г-н Лунин (не из фамилии известных Луниных). Он был при нем вроде гофмаршала или камергера: хозяйничал при дворе его, приглашал на празднества и пр. В Москву ожидали турецкого или персидского посла. Разумеется, Позняков не мог пропустить эту верную оказию. И занялся приготовлением к великолепному празднику в честь именитого восточного гостя. К сожалению, смерть застала его в приготовлениях к этой тысячи и одной ночи. Посол приезжает в Москву, и Лунин к нему является. Он докладывает о предполагаемом празднике и о том, что Позняков извиняется перед послом: за приключившеюся смертью его праздник состояться не может.
* * *
Когда перед 1812-м годом был выстроен в Москве Большой театр, граф Растопчин говорил, что это хорошо, но недостаточно: нужно купить еще 2000 душ, приписать их к театру и завести между ними род подушной повинности, так чтобы по очереди высылать по вечерам народ в театральную залу: на одну публику надеяться нельзя.
Страсть к театру развилась в публике позднее; но и тогда уже были театралы и страстные сторонники то русских актеров, то французских. В числе первых был некто Гусятников, человек зрелых лет и вообще очень скромный. Он вышел из купеческого звания, но мало-помалу приписался к лучшему московскому обществу и получил в нем оседлость. Он был большой поклонник певицы Сандуновой. Она тогда допевала в Москве арии, петые ею еще при Екатерине II, и увлекала сердца, как во время оно она заколдовала сердце старика графа Безбородки, так что даже вынуждена была во время придворного спектакля жаловаться императрице на любовные преследования седого волокиты. Гусятников был обожатель более скромный и менее взыскательный.
В то время, о котором говорим, приехала из Петербурга в Москву на несколько представлений известная Филис-Андрие. Русская театральная партия взволновалась от этого иноплеменного нашествия и вооружилась для защиты родного очага. Поклонник Сандуновой, Гусятников, стал, разумеется, во главе оборонительного отряда. Однажды приезжает он во французский спектакль, садится в первый ряд кресел, и только что начинает Филис рулады свои, он всенародно затыкает себе уши, встает с кресел и с заткнутыми ушами торжественно проходит всю залу, кидая направо и налево взгляды презрения и негодования на недостойных французолюбцев (как нас тогда называли с легкой руки Сергея Глинки, доброго и пламенного издателя Русского Вестника).
* * *
Муж Сандуновой был тоже актер, публикой любимый. Одновременно брат его был известный обер-секретарь. Братья были дружны между собой, что не мешало им подтрунивать друг над другом. «Что это давно не видать тебя?» – говорит актер брату своему. «Да меня видеть трудно, – отвечал тот, – утром сижу в Сенате, вечером дома за бумагами; вот тебя, дело другое, каждый, когда захочет, может увидеть за полтинник». – «Разумеется, – говорит актер, – к вашему высокородию с полтинником не сунешься».
* * *
Кто-то говорил, что он желает умереть не в надежде, что будет лучше, а что по крайней мере будет иначе. Молодой стихотворец приносит к опытному критику два стихотворения свои с просьбой сказать ему, которое из них можно напечатать. По прослушивании первого стихотворения критик не раздумывая говорит стихотворцу: печатайте второе!
* * *
Австрийский посол при Оттоманской Порте (бывший товарищ нашего графа Бальмена на острове Святой Елены) граф Стюрмер рассказывал, что однажды явился к нему в Константинополе австрийский подданный, очень хорошей фамилии и зажиточный помещик. В разговоре объяснил он, что намерен поселиться в Турции, принять турецкое подданство и обратиться в магометанскую веру. На это граф Стюрмер сказал ему, что не считает себя вправе противодействовать намерению его, что если он покушается на подобную меру из видов честолюбия, то может крепко ошибиться в расчете своем: редко удается ренегатам достигнуть желанной цели; правительство мало им доверяет, а турки ревнуют к ним и смотрят на них неприязненно.
«Да я и не ищу честолюбивой цели, – отвечает приезжий, – я даже в службу вступать не думаю». – «Из чего же затеваете вы все это дело?» – «Из религиозного убеждения». – «Против этого возражать мне нечего», – сказал посол.
* * *
Можно родиться поэтом, оратором; но родиться критиком нельзя. Поэзия, красноречие – дары природы, критика – наука; ее следует изучать. И у диких народов есть своя песня и свое красноречие, но критического исследования у них не найдешь. У нас есть критики или критиканы, но критики нет. Редкие попытки, редкие исключения в счет не входят. У нас завелись и развелись критиканы, потому что, по примеру европейской журналистики, понадобилось и в наших журналах иметь отделение критики. Вот издатели и вербуют на эту работу горячих борзописцев, которым и море, и науки по колено. А на деле выходит, что они почти ничего не знают, мало читали не только из иностранной литературы, но равно и из своей, кроме текущей, и то с исключениями, смотря по погоде и приходу, к которому они принадлежат. Лучшие писатели наши еще не исследованы, не оценены. О них идет говор, но решающего, окончательного голоса нет.
Кроме науки и многоязычного чтения, для критика нужен еще вкус. Это свойство и врожденное, родовое и благоприобретенное. Вкус, изящное чувство, какое-то тайное чутье, своего рода литературная совесть. В ином она более чутка и впечатлительна; в другом черства и огрубела. Впрочем, и вкус изощряется, совершенствуется учением, сравнением и опытностью. Теперь ставят ни во что критики Мерзлякова; в полном самодовольстве невежества пренебрегают ими, смеются над ними. Можно и должно не порабощаться суеверно критическим взглядам и законам Мерзлякова; но все же нельзя не признать в нем критика образованного, который говорит не наобум. В голосе и мнениях его отзывается изучение образцов, с которыми знакомился он в самом источнике. Есть чему научиться от него, потому что и сам он учился.
Во Франции Лагарп, как критик, устарел, но Курс Литературы его, как летопись, как справочная классическая книга, – не совершенно утратил свое значение и достоинство. У нас теперь знают о нем по отзывам литературных выскочек, которые на лабазном языке своем, как говорит Дмитриев, или, вернее, на холопском, толкуют с презрением о лагарповщине. Во Франции, в некотором отношении, критика ушла вперед от Лагарпа; у нас она до Лагарпа еще не дошла.
* * *
Луи-Филипп часто сетовал с огорчением о нерасположении к нему одного из могущественнейших европейских владык. Тьер старался успокоить его и наконец сказал ему: «Да делайте то, что академик Сюар делал с женой своей». – «А что же он делал?»
«Она была очень брюзглива и часто изыскивала средства тормошить и мучить его. Бывало ночью, когда он спит, она разбудит его и скажет: «Сюар, я не люблю тебя». – «Ничего, – отвечал он, – полюбишь после», – перевернется на бок и тут же заснет. Часа два спустя она снова будит его и говорит: «Сюар, я другого люблю». – «Ничего, – отвечает он, – после разлюбишь», – перевернется на бок и опять засыпает.
* * *
Кто-то спрашивал у сельского священника, отчего воспрещается отцу быть при крещении ребенка своего. Священник немного призадумался и наконец сказал: «Полагаю, от того, что совесть убивает».
* * *
Дмитриев много читает и большой скопидом на книги свои. Когда которой из них не окажется, и он не помнит, кто зачитал ее, он посылает слугу по списку всех своих знакомых, к каждому из них, с настойчивым требованием возвратить взятую у него книгу. При поголовном обыске виноватый отыщется.
Другой библиофил и библиоман, граф Бутурлин, которого библиотека в Москве до 1812 года пользовалась европейской известностью, держался другого правила: он никогда не выпускал из дома ни единой книги. Когда, по каким-либо уважениям, он не признавал возможным отказать лицу, просившему его одолжить книгу для прочтения, он покупал другой экземпляр этой книги и отдавал на жертву просителю, свято соблюдая неприкосновенность своего книгохранилища.
В страсти его к книгам была и другая отличительная черта: он сам читал их и на разных языках. Книжная память его была изумительна: он помнил, на какой странице находились мало-мальски любопытные и замечательные слова. До 1812 года он не выезжал из России, но знал твердо разнообразные местные наречия итальянского и французского народонаселения, знал наизусть, до малейшей подробности, топографию Рима, Неаполя, Парижа. Он удивлял иностранцев своим энциклопедическим всеведением: слушая его, они думали, что он много времени прожил в той или другой местности, и едва верили, когда граф признавался им, что он не выезжал еще из России.
* * *
Из дорожного дневника одного путешественника выписываем следующее:
1) На целебных водах, на берегу известных озер в Швейцарии, на всех летних пребываниях, посещаемых праздношатающимися европейцами, местная полиция, обязанная унимать шум и бесчинства на улице, должна бы обращать внимание и на домашние шумы и бесчинства, коим предаются англичанки и американки, употребляя во зло данные им неуклюжие руки и фальшивые голоса. Нигде нет спасения от этих злосчастных Лаур за клавесином (смотри злосчастное стихотворение Державина.) С утра до вечера, целый день, где ни живи, по какой улице ни ходи, везде слышишь, как пищат, мяучат, скрипят, дребезжат эти голоса и нестройно прыгают и перестукиваются зазубренные клавиши. Воля ваша, а это прямое и нестерпимое посягательство на общественное спокойствие и личную безопасность: это неминуемо вредит здоровью, за которым обыкновенно съезжаются из разных и дальних стран в эти благодатные убежища, осчастливленные солнцем и лаской природы.
2) Немецкие кучера удивительные мастера отыскивать горы там, где на взгляд простого смертного никакой горы в виду не имеется. Если почва подымается на дюйм, то они уже заблаговременно везут шагом, а если придется спуститься на один дюйм, тормоз начинает уже действовать. Как все это далеко от русского крика: С горки на горку! Катай-валяй!
* * *
И nous faut la guerre, il nous faut la guerre, mon cher Denis, – говорит Давыдову генерал Еммануель, – voyez un peu, en temps de paix, Vitt meme, devient colossal (нам нужна война, нам нужна война, мой любезный Денис: в мирное время, посмотри, и Витт становится колоссальным).
* * *
Глубокая характеристическая черта выражается в крутом переносе одного местоимения на другое.
В разгар холеры в Петербурге Л. говорил приятелю своему: «А скверная вещь эта холера! Неожиданно нагрянет и все покончит. Того и смотри, что завтра зайдешь ты ко мне, и скажут тебе, что я… То есть, я зайду к тебе завтра, и скажут мне, что ночью умер ты от холеры».
Но этот предохранительный, грамматический поворот не спас бедного Л… Несколько дней спустя после сказанных слов был он холерою похищен.
* * *
При А. М. Пушкине говорили о деревенском поверий, что тараканы залезают в ухо спящего человека, пробираются до мозга и выедают его.
«Как я этому рад, – прервал Пушкин, – теперь не буду говорить про человека, что он глуп, а скажу: обидел его таракан».
* * *
Необразованный человек особенно выдается в высокомерии и самохвальстве своем. Бывают самолюбивы и люди с умом и дарованием, но они из благоприличия стараются сдерживать себя. Воспитание, обхождение с людьми, принадлежащими высшей среде, в умственном и общественном отношении, умеряют и обуздывают эти дикие порывы собственного идолопоклонства. Восточные народы самохвальны, потому что они невежественны. Литература, которая с презрением и свысока отзывается о литературах иностранных, принадлежит, по этнографическим условиям, к восточной полосе земного шара.
* * *
Один отец, весьма остроумный и практический, говорил с умилением и родительским самодовольством: «Мой сын именно на столько глуп, на сколько это нужно, чтобы успеть и на службе, и в жизни: менее глупости было бы недостатком, более – было бы излишеством. Во всем нужны мера и середка, а сын мой на них и напал».
* * *
Однажды Пушкин между приятелями сильно руссофильствовал и громил Запад. Это смущало Александра Тургенева, космополита по обстоятельствам, а частью и по наклонности. Он горячо оспаривал мнения Пушкина, наконец не выдержал и сказал ему: «А знаешь ли что, голубчик, съезди ты хоть в Любек».
Пушкин расхохотался, и хохот обезоружил его.
Нужно при этом напомнить, что Пушкин не бывал никогда за границей, что в то время русские путешественники отправлялись обыкновенно с Любскими пароходами и что Любек был первый иностранный город, ими посещаемый.
* * *
Один французский писатель, помнится, Жофре (Jauffret), в книге Екатерина II и царствование ее, рассказывает следующее: Екатерина часто повторяла: «Глаз хозяина откармливает лошадей (Toeil du maitre engraisse les chevaux)». Она умела расспрашивать и выслушивать. «Разговор с невеждами, – говорила она, – иногда более научит, нежели разговор с учеными. Этим господам стыдно было бы не дать ответа и по таким вопросам, о которых они понятия не имеют. Они никогда не решатся выговорить эти два слова, столь удобные нам, невеждам: не знаю».
Однажды, путешествуя по берегам Волги, она спросила жителей: довольны ли они своим положением? Большая часть из них были рыбаки. «Мы очень были бы довольны заработками своими, – отвечали они, – если бы не обязаны были отсылать в конюшни вашего величества значительное количество стерлядей, а стерляди очень дороги». – «Хорошо сделали вы, – отвечала императрица, улыбаясь, – что уведомили меня об этом; а я до сей поры и не знала, что лошади мои едят стерлядей. Постараемся это дело поправить».
Вот и другой случай под стать стерлядям. У кого-то из царской фамилии, кажется, у великого князя Павла Петровича, был сильный насморк. Ему присоветовали помазать себе нос на ночь салом, и были приготовлена сальная свеча. С того дня было в продолжение года, если не долее, отпускаемо ежедневно из дворцовой конторы по пуду сальных свечей – «на собственное употребление его высочества».
Кажется, А. А. Нарышкин рассказывал, что кто-то преследовал его просьбами о зачислении в дворцовую прислугу. «Нет вакансии», – отвечали ему. «Да пока откроется вакансия, – говорит проситель, – определите меня к смотрению хотя бы за какой-нибудь канарейкой». – «Что же из этого будет?» – спросил Нарышкин. «Как что? Все-таки будет при этом чем прокормить себя, жену и детей».
Он же рассказывал, что один камер-лакей, при выходе в отставку, просил, за долговременную и честную службу отставить его, «не в пример другим», арапом.
В противоположность американским республикам, во дворце выгоднее быть черным, чем белым. Ради Бога, не ищите здесь ни игры слов, ни косвенной эпиграммы: здесь просто сказано, что жалованье, получаемое арапами, превышает жалованье прочей прислуги.
* * *
Ермолов рассказывал, что в Турецкую войну старик князь Прозоровский, уже и после Аустерлицкого похода, все еще считал Кутузова мальчиком, а этот мальчик (прибавил Алексей Петрович) и сам уже ходил как на лыжах.
По мнению Ермолова, наши две армии, отдельно действующие в начале войны 1812 года, не иначе как чудом успели соединиться под Смоленском. При всем уважении к храбрости и блистательным воинским дарованиям Багратиона, Ермолов полагает, что нельзя было поручить ему предводительство всеми войсками. Он того мнения, что и после соединения двух армий мы не в силах были предпринять наступательные действия. При малочисленности нашей, ввиду больших сил неприятеля, была на нашей стороне одна невыгода: несогласие и даже неприязнь (по крайней мере в Багратионе) двух начальников. Ермолов писал о том к государю откровенное и смелое письмо.
На одном из военных советов Ермолов предлагал какую-то решительную меру. На это, кажется, Тучков, заметил, что не лучше ли обождать вечера. Хорошо, возразил Ермолов, если ваше превосходительство заключите с Наполеоном условие, что он вас оставит в живых до вечера.
Каждый разговор с Ермоловым есть историческая, анекдотическая, военная лекция. Не говорим уже о вставочных, острых и резких словах, которыми он обстреливал, ни о характеристике многих государственных лиц, о верном взгляде его на вещи и события. В доме своем на Пречистенке принимал он посетителей обыкновенно вечером. В кабинете своем сидел он перед столом. В рассказах своих выдвигал он ящик стола и вынимал из него, смотря по предмету речи, доказательные и объяснительные акты: письма великого князя Константина Павловича, Багратиона и проч. Самой внешностью своей, несколько суровой и величавой, головой львообразной, складом ума, речью, сильно отчеканенной, он был рожден действовать над народными массами, увлекать их за собой и господствовать ими. Ему было бы место в древней Римской истории. В истории новейшей, многосложенной, подчиняющейся строю административного порядка, он иногда сбивался с надлежащей почвы.
В последние годы служения своего он сделал несколько промахов. Главнейший состоял в том, что он, в выражениях уничижения паче гордости, просил об увольнении своем от звания члена Государственного Совета. Это звание ни в чем его не обязывало, он мог даже оставаться на жительстве в Москве, но в минуты решения важных государственных вопросов имел бы он возможность подавать свой голос. Но со всем тем, если, под раздражением неблагоприятных и щекотливых обстоятельств, мог он быть в рядах оппозиции и даже казаться стоящим во главе ее, то это было одно внешнее явление, которое многих обманывало; в сущности он был человеком власти и порядка. В нем была замечательная тонкость и даже хитрость ума, но под конец он слишком перетонил и перехитрил. Этим самым дал он против себя оружие противникам своим.