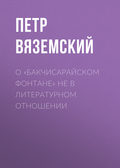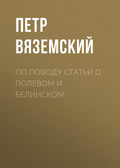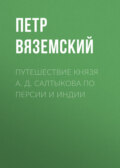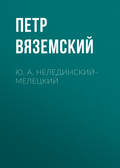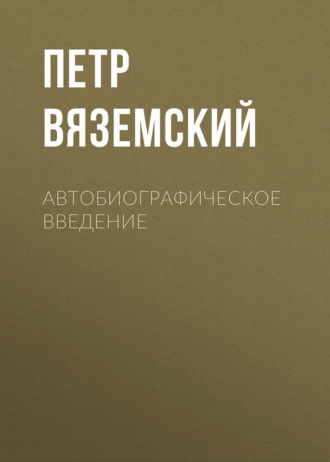
Петр Вяземский
Автобиографическое введение
XI
Выше было уже сказано, что я вообще писал не усидчиво, а более урывками. В литературной жизни моей были только два периода довольно постоянной деятельности, а именно, когда я участвовал в издании журнала «Телеграф» и когда писал биографию Фонвизина. Обе деятельности были почти случайные. Последняя обязана холере, другая вот каким обстоятельствам. Полевой был в то время еще литератором in partibus infidelium[18]. Едва ли не против меня были обращены первые действия его. По крайней мере, ему приписывали довольно бранное послание, напечатанное в «Вестнике Европы», в ответ на мое известное, а также не слишком вежливое, послание к Каченовскому. Как бы то ни было, Полевой со мной познакомился и бывал у меня по утрам. Однажды застал он у меня графа Михаила Вьельгорского. Речь зашла о журналистике. Вьельгорский спросил Полевого, что он делает теперь. «Да покамест ничего», – отвечал он. – «Зачем не приметесь вы издавать журнал?» – продолжал граф. Тот благоразумно отнекивался за недостатком средств и других приготовительных пособий. Юноша был тогда скромен и застенчив. Вьельгорский настаивал и преследовал мысль свою, он указал на меня, что я и приятели мои не откажутся содействовать ему в предприятии его, и так далее; – дело было решено. Вот как, в кабинете дома моего, в Чернышевом переулке (в Москве), зачато было дитя, которое после наделало много шума на белом свете. Я закабалил себя «Телеграфу». Почти в одно время закабалил себя Пушкин «Московскому Вестнику». Но он скоро вышел из кабалы, а я втерся и въелся в свою всеми помышлениями и всем телом. Журнальная деятельность была по мне. Пушкин и Мицкевич уверяли, что я рожден памфлетером, открылось бы только поприще. Иная книжка «Телеграфа» была наполовину наполнена мною, или материалами, которые сообщал я в журнал.
Журнал удался: от него пахло новизною и европейским веянием. Многое из напечатанного в нем входит ныне в собрание сочинений моих. Но, вероятно, не все. За давностью не упомню всего. Боюсь, что вкрадется в собрание кое-что и не мое, из журнальной мелочи. Сначала медовые месяцы сожития моего с Полевым шли благополучно, работа кипела. Не было недостатка в успехе, а с другой стороны, в досаде, зависти и брани прочих журналов. Все это было по мне; все подстрекало, подбивало меня. Я стоял на боевой стезе, стрелял изо всех орудий, партизанил, наездничал и под собственным именем, и под разными заимствованными именами и буквами. Журнальный сыщик все ловил на лету. Потеха, да и только. Но после издатель начал делать попытки по своему усмотрению: печатал статьи, изъявлял мнения, которые выходили совершенно вразрез с моими, прибавлю – не в отношении политическом и либеральном, – нет, просто в личном и чисто литературном. Он втайне уже помышлял о походе своем против «Истории Государства Российского» и готовился к этому. Все это мне не понравилось, и я отказался от сотрудничества. Впрочем, может быть, и Полевой рад был моему отказу. Я мог быть ему нужен первое время. Журнал довольно окреп и мог обойтись и без участия моего. Между тем, по условию, должен был я получать половину чистой выручки. Журналисту и человеку коммерческому легко было расчесть, что лучше не делить барыша, а вполне оставить его за собою. Что же? Полевой был прав, и я нисколько не виню его. Был прав и я. Литературная совесть моя не уступчива, а щекотлива и брезглива. Не умеет она мирволить и входить в примирительные сделки. Жуковский, а особенно Пушкин, оказывали в этом отношении более снисходительности и терпимости. Я был и остался строгим пуританином.
При переезде в Петербург на житье принимал я участие в «Литературной газете» Дельвига, позднее в «Современнике» Пушкина. Но деятельность моя тут и там далека была от прежней моей «телеграфической» деятельности.
Над Москвою в 1831 г. грянула холера. Перед тем приезжал я, или, говоря служебным языком, был откомандирован в Москву графом Канкриным для участия в устройстве первой промышленной выставки в Москве.
Появление холеры в столице застало меня в подмосковной моей, в селе Остафьеве. Часть семейства моего в нем жила. Нужно было, без отлагательства, решиться на одну из двух мер: остаться в деревне или тотчас перебраться с детьми в город. Чрез несколько часов Москва должна быть оцеплена: по дорогам учреждались карантины. В Москве уже гнездилась болезнь; но в ней были все врачебные пособия и удобства, чтоб по возможности бороться с нею. В деревне ее не было, могла она и не быть. Но в случае вторжения мы были бы совершенно безоружны против врага. Ответственность, лежавшая на мне, как на отце семейства, была тяжелая и, признаюсь, не по силам моим. Вообще, я не человек скорых и окончательных решений. В борьбе с жизнью я более Фабий Кунктатор, более свойства выжидательного. Здесь же лавировать, отвиливать, мешкать было нечего. Я решился оставаться в деревне. Бог меня надоумил и благословил решение мое. Первое время заточения было тяжкое. Всегда ожидаю скорее худого, нежели надеюсь на хорошее. Мало-помалу мы обжились в своем карантине. Для развлечения моего, пришла мне счастливая мысль. Давно задумал я заняться биографиею Фонвизина. Несколько страниц было уже написано; материалов под рукою было довольно. Вспомнил я о них, принялся за работу, и она закипела. Под боком у меня была библиотека обширная, иностранная и русская. Она была для меня богатою житницею. За работу принялся я не с пустыми руками: пересмотрел, перебрал, перечитал многие десятки книг исторических и литературных. Тут на опыте убедился я в пользе и правдивости учения, что все во всем (tout est dans tout). Все в мире, часто незаметно, но более или менее связывается и держится между собою. Ни в физическом, ни в нравственно-человеческом мироздании нет праздного пустого места. Все последовательно и соответственно занято. Нередко одно слово, одно имя, одно малейшее событие может увлечь в разнообразные и далекие изыскания. Так было и со мною. Много исторических сочинений перебрал я по поводу Фонвизина, прочитал я или пробежал почти всю старую русскую словесность, между прочим, едва ли не всего Сумарокова. Прочитал я даже более половины многотомного собрания «Российского феатра». Подвиг, скажу, геркулесовский. Иногда из целой книги извлекал я две-три строки, два-три слова, нужные мне для одной поверки, для одной наметки. Тредьяковский и Фридерик Великий, в своих исторических записках, были мне равно полезны. По возможности, все писанное мною было обдумано и проверено. Терпение и труд мой были вознаграждаемы сознанием, что поступаю добросовестно. Никогда письменная работа, ни прежде, ни после, не была для меня так увлекательна, как настоящая, на которую навела меня холера. Работал и писал я прилежно, усидчиво, по целым часам до обеда, вечером за полночь.
Уже при последних издыханиях холеры навестил нас в Остафьеве Пушкин. Разумеется, не отпустил я его от себя без прочтения всего написанного мною. Он слушал с живым сочувствием приятеля и судил о труде моем с авторитетом писателя опытного и критика меткого, строгого и светлого. Вообще более хвалил он, нежели критиковал. Между прочим, находил он, что я слишком строго нападаю на Фонвизина за неблагоприятное мнение его о французах и слишком горячо отстаиваю французских писателей. В одном месте, где противополагаю мнение Гиббона о Париже мнению Фонвизина, написал он на рукописи моей: «Сам ты Гиббон». Разумеется, в шутку и более в отношении к носу моему, нежели к моему перу. Известно, что Гиббон славился, между прочим, и курносием своим. При всей просвещенной независимости ума Пушкина, в нем иногда пробивалась патриотическая щекотливость и ревность в суждениях его о чужестранных писателях. Этого чувства я не знал и не знаю. Как бы то ни было, день, проведенный у меня Пушкиным, был для меня праздничным днем. Скромный работник, получил я от мастера-хозяина одобрение, то есть лучшую награду за свой труд.
Книга, написанная мною, долго пролежала у меня. Для полноты автобиографического очерка своего, скажу о ней еще несколько слов. Я уже заметил, что однажды написанное мною не что иное, как отрезанный ломоть. Оно уже не входит в состав жизни моей, не живая часть меня. Отпадшие листья не принадлежат уже дереву, которое породило и воскормило их. А вот что вывело «Фонвизина» моего на белый свет. В отсутствия, иногда довольно продолжительные, директоров я управлял департаментом внешней торговли; при нем издавалась «Коммерческая газета» и была типография. По старому ремеслу обращал я на них особенное внимание. Управляющий типографиею был человек знающий свое дело и усердный к нему. Он часто просил меня дать ему что-нибудь моего на станки его. Я вспомнил о спящей царевне своей, то есть о рукописи, и отдал ее в типографию. «Фонвизин» был напечатан, помнится мне, в числе шести или осьми сот экземпляров. Отданы были они на руки книгопродавцам. Кажется, издание разошлось. На мою долю выручка пала, много сказать, экземпляров на сто, прочие как-то улетучились. Habent sua fata libelli[19], особенно мои. Книга разошлась, но не громогласно, а довольно тихомолком. По крайней мере, не случалось мне встречать в журналах общей оценки ее, исследований по существу. Были более отметки о некоторых частностях. Бывали из нее и заимствования, но тоже не гласные. Меня также обходили молча, а, казалось, книга открывала поле для критики мыслящей и дельной. Если не была она литературное событие, то все же была любопытная и довольно серьезная попытка. Впрочем, молчанию о ней были и свои законные причины. Бранить книгу, может статься, было как-то неловко: брани мало поддавалась она. Не за что было ухватиться. Хвалить ее также не подобало, В это время литературные фонды мои значительно понизились на журнальной бирже, и не мои одни; другие капитальные дома, не то что моя фирма средней руки, были мало-помалу подорваны, и доверие к ним было поколеблено. Видите ли, в чем дело: я тогда уже перестал быть либералом, а, по сознанию Белинского, главного основателя, пророка и знаконодателя нового верования, вся суть литературы заключается в либерализме, как сказал он в известном письме к Гоголю. Мы, может быть, по-своему и оставались либералами. Мы не изменились, но либерализм изменился. Одним словом, книга моя если не совсем провалилась, то обрела, что на французском театральном языке называется: un succes dethine[20]…
Один Гоголь открыто подал голос за меня, но и то не совсем удачно, то есть не в меру. Гоголь, хотя и малоросс, то есть человек осторожный и себе на уме, бывал подчас чистокровный великоросс, то есть кидался в крайности:
О Росс, о род великодушный,