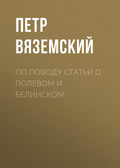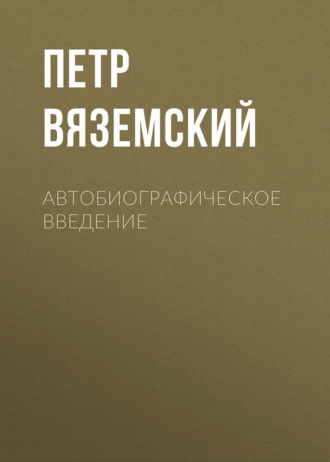
Петр Вяземский
Автобиографическое введение
Этик заключается период отрочества моего. Здесь расстаюсь и с иезуитами. Гораздо позднее встречался я на Востоке с некоторыми личностями, принадлежавшими ордену. Всегда удивлялся я их деятельности и самоотвержению. Разбросанные поодиночке, в местах пустынных, в Арабских бедных селениях, преподаватели Евангелия и грамотности, бодро и плодотворно носили они свой крест и совершали трудный подвиг. Римская церковь может быть властолюбива; но этих отдельных миссионеров и апостолов христианства обвинять в властолюбии нельзя. Они самоотверженные и бескорыстные послушники. Забавно же обвинять их в том, что преподают они Римское законоучение, а не православное. Между тем, найдутся люди, которые ставят им и это в преступление, и за это ненавидят их. Не забывают ли они в пылу православия своего, что евангелие писано для всех народов, для всех христиан, а не в пользу того или другого вероисповедания и прихода.
V
Из учебного паломничества возвратился я в Москву, в родительский дом – еще отроком по возрасту, но почти уже молодым человеком по выправке и развитию. Должно прибавить, что из иезуитского пансиона перешел я, не на долгое время, в пансион, учрежденный в Петербурге при новообразованном педагогическом институте. Это, кажется, было создание Ник. Ник. Новосильцева. Директором заведения был Энгельбах. Там встретился я с некоторыми товарищами, также перебежчиками из-под иезуитского крова. Не хочу и не могу сказать ничего худого о моем там пребывании; но не могу сказать и ничего особенно хорошего. Учебный и умственный уровень заведения был вообще ниже иезуитского как по преподавателям, так и в отношении к ученикам. Помню только одного учителя французского языка, Брошье. Он умел, как француз, придавать урокам своим оживление и разнообразие: он был с нами разговорчив. Для одного из таких уроков перевели статью Карамзина под именем «Деревня». В одном месте говорит он, что предпочитает картины природы картинам великих живописцев. «Если так, – сказал мне Брошье, – и если у родственника вашего есть такие картины, то попросите его мне их отдать: я их предпочитаю природе». В 1806 году Карамзин прислал мне из Москвы, уже как питомцу муз, стихотворение свое: «Песнь воинов». Эта присылка меня очень возвысила в глазах моих товарищей. «Cos vers sont-ils bien ronflants?»[7] – спросил меня Брошье. Тут высказался и француз, и литератор, и щекотливый француз-патриот. Гораздо позднее этот Брошье был хорошо известен Петербургу, особенно посещавшим графа Алексея Федоровича Орлова, у которого он был близким и домашним человеком: вероятно, также по пансионским преданиям учебного заведения аббата Никола.
В новой моей ученической среде я также не по чину и не по возрасту вращался с поколением, меня опередившим. Не знаю, как это случилось, но я познакомился и сблизился с некоторыми из педагогических студентов. Мы жили с ними на одном дворе, но совершенно отдельно. В памяти моей сохранился один из них, по имени Бобриков, или что-то на это похожее. Помнится мне, принадлежал он, хотя и с побочной стороны, семейству графа Бобринского. Он познакомил меня с стихотворениями французского поэта, Парни, которого элегии впоследствии были так хорошо и так нежно переданы Батюшковым на русском языке. Помню, что по этому поводу прозвал я бедного Батюшкова, в шуточном послании:
Певец чужих Элеонор.
Домой возвратился я благополучно; хотя со времени отсутствия моего отец не очень имел повод утешать себя вестями об успехах моих по наукам и о моем поведении, принят был я им ласково и вообще семейством нежно и радостно. Упомянул я о поведении своем: благодаря бога, ничего особенно порочного по было; но были шалости и предосудительные уклонения. В пребывании моем во втором пансионе пользовался я большою и чрезмерною свободою в вакантные дни: ходил я один в театр, в маскарады. По преданию, а не по памяти знаю, что однажды в театре я очень шумел и бурлил, – из чего и для чего, сказать не умею. Но приятельница отца моего Екат. Влад. Апраксина подметила это из ложи своей и донесла отцу. Может быть, вследствие этого и вызвали меня обратно в Москву.
Как известно, родительский дом был одним из гостеприимнейших. Гости его принадлежали более или менее к разряду людей образованных и разговорчивых, в смысле и значении разговора дельного, просвещенного и приятного. Подобные дома вывелись или выводятся не только у нас, но вообще и во всей Европе. Жаль: такие дома были практическою и дополнительною школою для молодежи. В этой атмосфере было много образовательной жизни и силы, много было и литературного. Худо верую в литературу, которая рождается и сосредоточивается в самой себе, – вне больших житейских течений. Что ни говори о так называемых салонах, но они бывают нередко произрастительными и плодотворными почвами. Блестящая и многознаменательная французская литература последней половины XVIII столетия расцвела и созрела на этой почве. Как бы то ни было, в подобной умственной среде понятия и наклонности мои еще более развились. В доме отцовском женский элемент господствовал наравне с мужским. Тут, в сфере умственного соревнования, проглядывало между двумя полами истинное равноправие, которое женщины ищут ныне в химических лабораториях, в фельдшерских и анатомических театрах.
Разумеется, женский элемент, который нашел я в доме нашем, не праздно отозвался во мне и в молодом и впечатлительном сердце моем. Впрочем, по домашним преданиям, рано начал я быть Сердечкиным: именно Сердечкиным – в смысле более платонической, нежели материальной любви. Так вообще было со мною и после, и всегда. Но вот детская легенда моя. Когда ехали мы в Нижний Новгород, куда отец был назначен генерал-губернатором, незадолго до кончины императрицы, мы на дороге где-то и у кого-то остановились переночевать. В доме была дочка, которая, так гласит предание, очень мне понравилась и за которою я весь вечер ухаживал. Было мне тогда года четыре. На другой день, когда семейство наше собралось в дальнейший путь, ищут меня, а меня нет. Наконец отыскивают где-то под диваном, куда залез и запрятался я, чтобы не расставаться с маленьким моим кумирчиком. Не ясно помню этот романический эпизод, но домашние удостоверяли в правдивости его. Кстати скажешь: se non e vero, e ben trovato[8]. По системе вероятностей и правдоподобия и судя a posteriori[9], готов я согласиться, что оно так и было. После таких ранних и с продолжениями впредь романических приключений на деле как не пришло мне никогда в голову написать вымышленный роман? Подите объясните. Впрочем, я очень взыскателен и не легко удовлетворяем по части романов. На всем веку своем едва ли шесть прочитал я с полным удовольствием и никогда не признавал в себе сил и достаточного дарования, чтобы пополнить это число седьмым. Удачно и вполне удовлетворительно, то есть упоительно, написанный роман есть, по мне, самое увлекательное и потрясающее чтение. Это почти событие в жизни. С подобным романом сживаешься не только во время чтения, но живешь им долго и после чтения. Романы второстепенные, второй руки, плоды одной деятельной и рутинной посредственности, эти плоды могут быть более или менее лакомы, судя по вкусам; но с дерева не срываю их и за столом до них не дотрогиваюсь.
Со вступлением Карамзина в семейство наше русский литературный оттенок смешался в доме нашем с французским колоритом, который до него преодолевал. По возвращении из пансиона нашел я у нас Дмитриева, Василия Львовича Пушкина, юношу Жуковского и других писателей. Пушкин, еще до отъезда своего уже отдавший пером Дмитриева отчет в путевых впечатлениях своих, только что возвратился тогда из Парижа. Парижем от него так в веяло. Одет он был с парижской иголочки с головы до ног. Прическа à la Titus, углаженная, умащенная древним маслом, huile antique. В простодушном самохвальстве давал он дамам обнюхивать голову свою. Не умею определить: смотрел ли я на него с благоговением и завистью или с оттенком насмешливости. Вероятно, было и то и другое. Но мог ли я думать тогда, что, спустя несколько годов, будем мы на ты и в самой короткой дружеской связи? Дмитриев говаривал о нем, что он кончит тем, что будет дружен с одними грудными младенцами, потому что чем более стареет, тем все более сближается с новейшими поколениями. Грешно было бы мне поминать его слегка, а паче того насмешливо. Он был приятный, вовсе не дюжинный стихотворец. Добр он был до бесконечности, до смешного; но этот смех ему не в укор. Дмитриев верно изобразил его в шутливом стихотворении своем, говоря за него: я, право, добр, готов сердечно обнять весь свет[10]. Меня любил он с особенною нежностию, могу сказать, с балующею слабостью. Зять его, Солнцев, говорил, что сердечные привязанности его делятся на три степени: первая – сестра его Анна Львовна, вторая – Вяземский, третья – однобортный фрак, который выкроил он из старого сюртука, по новомодному покрою фрака, привезенного в Москву Павлом Ржевским.
Не знаю, почему в этот список просится один Машков, маленький, горбатый. Казалось мне, что отец очень охотно разговаривал с ним; но в моих глазах, вероятно, горб его был главным attraction[11]. Впрочем, помнится мне, что он был дядя поэта Майкова. Однако, может быть, и ошибаюсь.
В ряду литературной молодежи был тут и новичок, которого отличили отец мой и Карамзин. Он даже запросто обедывал у нас: в то время это было исключение. В старину обедывали семейно, а ужинали в гостиных с гостями. Ужин был завершение, увенчание заботливого дня; послеужинный разговор был свободнее и мог быть продолжительнее разговора послеобеденного. Теперь съезжаются за пять минут до обеда и обыкновенно разъезжаются после кофе. Выгоды и прелести общежития и разговорчивости от этого страдают. Имени новичка нашего в точности не помню, чуть не Бошняк ли? может быть, потомок Саратовского коменданта, с которым возился и боролся Державин во время пугачевщины. Как бы то ни было, он занимался естественными науками, в особенности монографиею паука. Вероятно, в нынешнее время занимался бы он и потрошением лягушек. Закончу смотр и перекличку свою заметкою довольно забавною, заметкою совершенно семейною и домашнею. Сестра моя, впоследствии жена князя Алексея Григорьевича Щербатова, – Жуковский посвятил памяти ее несколько трогательных стихов в «Певце в стане русских воинов», – сестра моя, старшая меня тремя годами, и я были вовсе не довольны водворением Карамзина в наше семейство. В нас таилась глухая оппозиция против этого брака: детские сочувствия наши были на стороне армейского майора, помнится, Струкова, который был несчастным соперником Карамзина. Он был к нам внимателен и ласков; вероятно, он заискивал наш союз ценою субсидий: гостинцами и конфектами. Карамзин не обращал внимания на союзников. Забавно, что, когда брак был уже решен, мы с сестрою изливали грусть свою стихами самого Карамзина. Вечером ходили мы по длинному коридору и вполголоса, с сжатым сердцем и слезами на глазах, от лица Струкова мурлыкали: