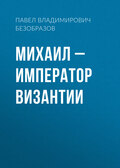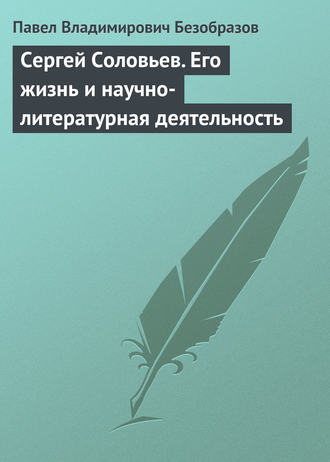
Павел Владимирович Безобразов
Сергей Соловьев. Его жизнь и научно-литературная деятельность
В России Соловьев опять-таки видит две половины – лесную и степную – и этим различием природы объясняет разные явления нашей истории.
“Здесь, – говорит он, – две формы господствуют – лес и поле, или степь. Из противоположности этих двух форм, находящихся друг подле друга, вытекает историческая противоположность, борьба народонаселения двух половин России, лесной и степной. Степь была изначала жилищем кочевых, хищных народов; с ними – изначальная борьба Руси, основавшейся в польской (степной) украйне. Борьба эта, несмотря на всю удаль князей и дружин их, кончилась торжеством степного народонаселения, которое постоянно пустошило Русь при половцах и окончательно запустошило при татарах. Прочный порядок вещей, государство, способное побороть степное народонаселение, могли утвердиться, окрепнуть только вдали от степи, на севере, в лесной стороне, малодоступной, не удобной для кочевого хищника. Но Московское государство, образовавшееся в лесной стороне, при своем распространении скоро достигло степи; у него образовалась польская, как называли в старину, т. е. степная окраина, или украйна, долженствовавшая постоянно терпеть от соседства степи; но это была только украйна, тогда как в Древней Руси главная сцена действия, стольный город великокняжеский был на самой украйне. И Московское государство ведет постоянную борьбу с народонаселением степей; с ослаблением кочевых орд борьба не прекращается, ибо в степи образуется особого рода народонаселение – казаки. Борьба земских людей, государства с казачеством есть, относительно природных форм, борьба лесной стороны с полем, степью, что особенно выразилось в Смутное время и в последующие казацкие движения, когда Россия делилась по духу, характеру народонаселения, на северную, земскую, и на южную, украйну со степями, казацкую. Степь условливала постоянно эту бродячую, разгульную казацкую жизнь с первобытными формами; лес более ограничивал, определял, более усаживал человека, делал его земским, оседлым, установившимся, в противоположность казаку вольному, гулящему”.
Соловьев сам указал на задачу, которую, по его мнению, должен выполнить русский историк.
“Уже давно, – говорит он, – как только начали заниматься русской историей с научной целью, подмечены были главные, особенно выдающиеся в ней события, события поворотные, от которых история заметно начинает новый путь. На этих событиях начали останавливаться историки, делить по ним историю на части, периоды; начали останавливаться на смерти Ярослава I, на деятельности Андрея Боголюбского, на сороковых годах XIII века, на времени вступления на московский престол Иоанна III, на прекращении старой династии и восшествии новой, на вступлении на престол Екатерины П. Некоторые писатели из этих важных событий начали выбирать наиболее, по их мнению, важные; так явилось деление русской истории на три большие отдела: древнюю – от Рюрика до Иоанна III, среднюю – от Иоанна III до Петра Великого, новую – от Петра Великого до позднейших времен. Некоторые были недовольны этим делением и объявили, что в русской истории может быть только два больших отдела – история древняя, до Петра и новая, после него. Обыкновенно каждый новый писатель старался показать неправильность деления своего предшественника, обыкновенно старался показать, что и после того события, при котором предшествующие писатели положили свои грани, продолжался прежний порядок вещей; что, наоборот, перед этой гранью мы видим явления, которыми писатель характеризовал новый период, и т. д. Споры бесконечные, ибо в истории ничего не оканчивается вдруг; новое начинается в то время, когда старое продолжается. Но мы не будем продолжать этих споров, мы не станем доказывать неправильность деления предшествовавших писателей и придумывать свое деление, более правильное. Мы начнем с того, что объявим все эти деления правильными; мы начнем с того, что признаем заслуги каждого из предшествовавших писателей, ибо каждый в свою очередь указывал на новую сторону предмета и тем способствовал лучшему пониманию его. Все эти деления и споры о правильности того или другого из них были необходимы в свое время, в первое время занятия историей; тут необходимо, чтобы легче осмотреться, поскорее разделить предмет, поставить грани по более видным, по более громким событиям; тут необходим сначала внешний взгляд, по которому эти самые видные, громкие события и являются исключительными определителями исторического хода, уничтожающего вдруг все старое и начинающего новое. Но с течением времени наука мужает, и является потребность соединить то, что прежде было разделено, показать связь между событиями, показать, как новое проистекло из старого, соединить разрозненные части в одно органическое целое, является потребность заменить анатомическое изучение предмета физиологическим.
История, – говорит дальше Соловьев, – знает различные виды образования государств: или государство, начавшись незаметной точкой, в короткое время достигает громадных размеров, в короткое время покоряет себе многие различные народы, к одной небольшой области в короткое время силой завоевания привязываются многие другие государства, связь между которыми не условливается природой. Обыкновенно такие государства как скоро возросли, так же скоро и падают: такова, например, судьба азиатских громадных государств. В другом месте видим, что государство начинается на ничтожном пространстве и потом, вследствие постепенной напряженности сил, от внутреннего движения в продолжение довольно долгого времени, распространяет свои владения на счет соседних стран и народов, образует громадное тело и наконец распадается на части вследствие самой громадности своей и вследствие отсутствия внутреннего движения, исчезновения внутренних живительных соков: таково было образование государства Римского. Образование всех этих громадных государств, какова бы ни была разница между ними, можно назвать образованием неорганическим, ибо они обыкновенно составляются нарастанием извне, внешним присоединением частей посредством завоевания. Иной характер представляется нам в образовании новых европейских христианских государств; здесь государства, при самом рождении своем, вследствие племенных и преимущественно географических условий, являются уже в тех же почти границах, в каких им предназначено действовать впоследствии; потом наступает для всех государств долгий, тяжкий, болезненный процесс внутреннего возрастания и укрепления, в начале которого государства эти являются обыкновенно в видимом разделении, потом это разделение мало-помалу исчезает, уступая место единству: государство образуется. Такое образование мы имеем право назвать высшим, органическим” (т. IV, с. 363–367).
Поняв, что русское государство образовалось путем органическим, Соловьев с редким талантом осуществил намеченную им задачу, показал, как развивалось это органическое целое. Труд его объединен одной общей идеей, идеей развития, прогресса. Такую точку зрения он называл исторической, говоря, что без начала движения, начала развития нет истории. Соловьев не отделяет одной эпохи от другой, напротив, он ставит их в связь, показывает, как одни явления порождают другие, как события следуют друг за другом по законам необходимости. Он следит за развитием, ростом государства и вместе с тем за развитием, ростом народа, за постепенным уяснением сознания его о себе как едином целом.
Европейские народы движутся с востока на запад, а славянская колонизация идет наоборот, с запада на восток.
“История-мачеха заставила одно из древнейших европейских племен принять движение с запада на восток и населить те страны, где природа является мачехой для человека. В начале новой европейско-христианской истории два племени приняли господствующее положение и удержали его за собою навсегда, германское и славянское, племена-братья одного индоевропейского происхождения; они поделили между собой Европу, и в этом начальном дележе, в этом начальном движении немцев с северо-востока на юго-запад, в области Римской империи, где уже заложен был прочный фундамент европейской цивилизации, и славян, наоборот, с юго-запада на северо-восток, в девственные и обделенные природой пространства, – в этом противоположном движении лежит различие всей последующей истории обоих племен”.
Славяне колонизуют восточную равнину, они живут здесь отдельными племенами в родовом быту. История России, подобно истории других государств, начинается богатырским, или героическим, периодом, то есть вследствие известного движения – у нас вследствие появления варяго-русских князей и дружины их – темная безразличная масса народонаселения потрясается, и происходит выделение из нее лучших людей, по тогдашним понятиям, то есть храбрейших, одаренных большой материальной силой и чувствующих потребность упражнять ее. Это мужи – люди по преимуществу, тогда как остальные в глазах их остаются полулюдьми, маленькими людьми, мужиками. Вследствие слабости племенного начала у славян и равнинности страны, помогающей слиянию, в этот первый богатырский период исчезают племена, вместо них появляются волости, княжения, с именами, заимствованными не от племен, а от главных городов, от правительственных, стянувших к себе окружное народонаселение, центров. Племенные союзы уничтожились, государственное единство еще не образовалось, волости, отстоящие далеко друг от друга, могли бы обособиться, если бы князья со своими дружинами не переходили постоянно с места на место. Они должны были передвигаться, того требовали родовые отношения. Князья разошлись по волостям, даже самым отдаленным, но единство рода сохранялось, главный стол принадлежал старшему в целом роде, а лучшие волости доставались по степени старшинства; отсюда князья – только временные владельцы в своих волостях; взоры их устремлены постоянно на Киев, и вместо стремления обособиться они считают величайшим несчастьем для себя, если принуждены выйти из общего родового движения. Таким образом, посредством родовых княжеских отношений, посредством беспрестанных передвижек князей и дружин их из одной области в другую народонаселение и самых отдаленных областей не могло высвободиться из общей жизни, постоянно имело общие интересы и укореняло в себе сознание о нераздельности русской земли. К единству политическому, державшемуся родовыми княжескими отношениями, присоединялось единство церковное. В том времени, которое с первого раза казалось временем разделения, розни, усобиц княжеских, Соловьев увидел время, когда положено было прочное основание народному и государственному единству.
“Во сто лет, протекшие от смерти Ярослава, мы видим, что преимущественно вследствие продолжения движения все элементы задержаны в своем развитии, налицо все первоначальные формы: бродячие дружины, члены их, свободно переходящие от одного князя к другому; в челе – дружины, неутомимые князья-богатыри, переходящие из одной волости княжить в другую, ищущие во всех странах честь свою взять, не помышляя ни о чем прочном, постоянном, не имея своего, но все общее, родовое; веча с первоначальными формами народных собраний без всяких определений; а тут, на границе, кочевники переходят к полуоседлости; немного далее, в степи, виднеются вежи и чистых кочевников. Всё здесь, на восточной равнине, отзывается первобытным миром, общество как будто еще в жидком состоянии, и нельзя предвидеть, в каком отношении найдутся общественные элементы, когда наступит время перехода из одного жидкого, колеблющегося состояния в твердое, когда всё усядется и начнутся определения”.
Затем Соловьев спрашивает: когда же и где именно, при каких условиях начались эти определения? Чтобы ответить на этот вопрос, он объясняет, каким образом центр государственной жизни перешел из Киева во Владимир. Карамзин думал, что предпочтение, отдаваемое северо-восточной Руси перед Киевской, объясняется личным вкусом Андрея Боголюбского, питавшего нерасположение к юго-западной Руси, и личными достоинствами этого князя: “разум превосходный” заставил его стремиться к искоренению вредной удельной системы. Соловьев указывает на внутренние, органические причины, обусловившие дальнейший ход нашей истории. Несчастное положение юго-западной Украины, страдавшей от наплыва кочевников и от княжеских усобиц, необходимо заставляло часть ее жителей выселяться в страны более спокойные. Эти страны были именно отдаленные северо-восточные области русские, суровая климатом, бедная населением область верхней Волги, где князья, тяготясь малолюдностью, отовсюду призывали насельников, давали им льготы, строили им города. Вследствие недавней колонизации население на севере относилось к князю иначе, чем на юге.
“В западных областях славяне были старые насельники, старые хозяева, князья были пришельцы; на востоке, наоборот, славянские поселенцы являются в страну, где уже хозяйничает князь; князь строит городки, призывает насельников, дает им льготы: насельники всем обязаны князю, во всем зависят от него, живут на его земле, в его городах. Эти-то отношения народонаселения к князю и легли в основу того сильного развития княжеской власти, какое видим на севере. Явился и такой князь, который как нельзя лучше воспользовался своими выгодными отношениями к новому народонаселению, именно Андрей Боголюбский. Он переселяется жить из старого города Ростова в новый Владимир-на-Клязьме, где нет веча, где власть княжеская не встретит преград. Андрей понимает очень хорошо значение слов “мое”, “собственность” и не хочет знать юга, где князья понимают только общее родовое владение. Андрей, как древний богатырь, чует силу, получаемую от земли, к которой он припал, на которой утвердился навсегда; он не покидает этой земли, не переезжает в Киев, когда тот достался ему и по родовым правам, и по правам победы. Этот первый пример привязанности к своему, особому, первый пример оседлости становится священным преданием для всех северных князей, и отсюда начинается новый порядок вещей”.
Таким образом зарождается сильная княжеская власть как естественное следствие всей предыдущей истории. Московский период в труде Соловьева представляет такую же органическую связь с Владимирским, как последний с Киевским. Преемники Боголюбского, брат его Всеволод и потомки последнего, верные преданию, полученному от первого самовластца, продолжают стремиться к единовластию.