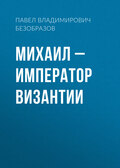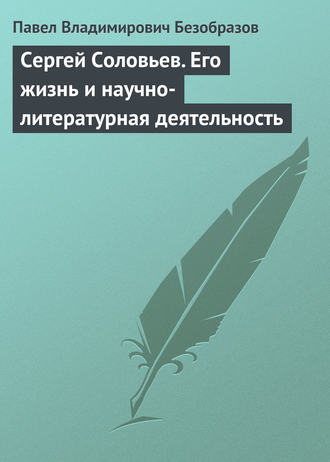
Павел Владимирович Безобразов
Сергей Соловьев. Его жизнь и научно-литературная деятельность
Сообразно с таким взглядом на высшее образование Соловьев старался в своих университетских лекциях не только давать студентам полезные сведения, но прежде всего развивать их, и потому придавал своему курсу философский характер. Не утомляя слушателей подробным изложением фактов, он останавливал внимание на так называемой внутренней истории, показывая, какое значение имела природа России для ее истории, прослеживая отношения между князьями в так называемый “удельный период”, объясняя, какое значение имело татарское иго, почему столица перенесена была с юга на север, как сложилось самодержавие, как вследствие борьбы казачества с земскими людьми наступило Смутное время, почему необходима была реформа Петра и в какой связи она находилась с предыдущим временем. Профессор старался понять законы, по которым развивалась русская история, и постоянными сравнениями с историей Западной Европы давал своим слушателям богатый материал для выводов, заставлял их думать, расширял их умственный горизонт. Чтобы познакомить читателей с изложением мыслей Соловьева на кафедре, приведу для примера одно место из его ненапечатанных лекций, где он говорит о реформе Петра Великого.
“Во второй половине XVII века русский народ явственно тронулся на новый путь: после многовекового движения на Восток он начал поворачивать на Запад, – поворот, который должен был необходимо вести к страшному перевороту, болезненному перелому в жизни народной, в существе народа, ибо здесь было сближение с народами цивилизованными, у которых надо было поучиться, которым надо было подражать. Вопрос о том, могло ли сближение с европейскими народами и воспринятие цивилизации совершиться спокойно в России, постепенно, без увлечения, решается легко при внимательном наблюдении общих законов исторических явлений. Можно ли себе представить, чтобы молодой, исполненный жизненных сил народ, сблизившись с другими, превосходящими его народами, понявши чрез сравнение недостатки своего быта, не бросился вдруг на все то, что казалось ему лучшим у других? Да и можно ли было медлить, когда несостоятельность его воли, несостоятельность материальная и нравственная были так живы? Западные европейские народы относительно цивилизации своей стояли высоко над русским, который должен был идти к ним в ученье. Долговременное пребывание в удалении от Западной Европы и ее цивилизации, крайность, исключительность одного направления необходимо условливали крайность противоположного направления, необходимость удовлетворить вдруг всему должна была неминуемо сообщить нашему так называемому преобразованию характер революционный, всесторонний. На Западе эти революции были политические, односторонние, боролись люди одной какой-нибудь партии; у нас в России революция прошла по чувству и уму человека, революция совершилась во всем русском человеке; некоторые думали, что Россия переоделась только, что в этом только состояла революция, но, внимательно присматриваясь, увидим, что русский человек преобразовался внутри. Миллионы новых предметов, понятий и отношений теснятся в уме русского человека, и он не слабеет, он не умирает от прикосновения к цивилизации, потому что он не как слабый дикарь знакомится с одной водкой, для слабой головы которого мир новых понятий не по силам, а как человек, сознательно понявший необходимость ученья.
Известно, что воспитатели и педагоги говорят: нельзя трудить слишком ребенка, нельзя вбивать ему в голову всего разом, представлять ему множество понятий и новых отношений, потому что можно заучить ребенка, умертвить его. То же самое происходит и со взрослыми дикарями: они не переносят натиска новых понятий, они заучиваются, так сказать, хиреют, вымирают. Следовательно, если народ, не знавши цивилизации, вдруг встречается с нею и не хиреет, не дрожит перед нею, а продолжает жить усиленной жизнью, он силен, – а русский человек выдержал натиски цивилизации в начале XVIII века. Преобразовательная деятельность должна была совершиться, она была необходима: народ, отставший от общего хода европейской жизни, вместе живой и молодой, не мог не броситься в погоню за цивилизацией. Мы не можем упрекать человека, который до совершеннолетия по обстоятельствам жизни своей не мог образовываться, а потом вдруг усиленно начинает хлопотать об этом, тем более что эта поспешность находится в связи с его существованием, а в таком-то положении находилась Россия: без преобразования она не могла существовать, преобразование, и преобразование спешное, было естественным следствием и необходимым результатом всей древней русской истории. Если наша революция в начале XVIII века была необходимым условием предшествовавшей истории, то из этого вполне уясняется значение главного деятеля в перевороте, Петра Великого; он является вождем в деле, а не создателем дела, которое потому есть народное, а не личное, принадлежащее одному Петру.
Великий человек есть всегда и везде представитель своего народа, удовлетворяющий своей деятельностью известным потребностям народа в известное время. Формы деятельности великого человека условлены историей, бытом народа, среди которого он действует. Чингисхан и Александр Македонский – оба завоеватели, но какая разница между ними! Эта разница происходит от различия народов, которых они были представителями. Деятельность великого человека есть результат всей предшествовавшей истории народа; великий человек не насилует свой народ, не создает того, что не потребно, и великий человек теряет свое божественное значение, не является существом созидающим и разрушающим по своему произволу.
Иностранцы не без некоторого, понятного, впрочем, удовольствия повторяли и повторяют, что Петр насильно и преждевременно цивилизовал русских, что и не могло повести и даже никогда не поведет ни к какому толку. Вооружаются вообще против преобразований, идущих сверху. Мы не знаем будущего, и потому не станем говорить о нем, но для устранения бесплодных толков опять обратимся к сравнениям из прошедшего. В настоящее время ни один из европейских писателей, верующий или неверующий, не станет отрицать цивилизующего значения христианства; каждый европеец гордится тем, что христианство пустило глубокие корни преимущественно в Европе, что доказывает высшее развитие, большую крепость племен, населяющих эту часть света. Но пусть же припомнят историю принятия христианства европейскими народами, пусть припомнят, что обыкновенно дело шло сверху, принимали христианство князь, дружина его, ближние люди, и потом уже новая вера распространялась в массе, причем не обходилось без ожесточенной борьбы, без страшного сопротивления со стороны народа, отстаивавшего старину, веру отцовскую. Что же из этого следует? То, что европейские народы были обращены в христианство насильно своими правительствами? Еще пример ближайший: в Англии король Генрих VIII вздумал отложиться от римской церкви; но известно, какое сильное сопротивление встретил он своему делу, какие сильные раздражения, восстания вельмож и народа должен был он побороть, – значит, английский народ был насильно отторгнут от папы, и реформа, которой так гордятся англичане, была личным делом Генриха VIII?
Итак, они ошибаются: Россия сама повернула на новый путь, но как нарочно в это же время грусть и скука выгоняют молодого царя из дворца на улицу, в новую сферу, где он окружен новыми людьми, где он – вождь новой дружины, разошедшейся с прежним бытом, с прежними отношениями. Без оглядки бежит он из скучного дворца чистым и свежим, новым человеком и потому способным окружить себя новыми людьми; он убежал от царедворцев и ищет товарищей, берет всякого, кто покажется ему годным для его дела. Образуется новое государство, и, как обыкновенно бывало при этом, является дружина со своим вождем, которая и движется, разрушая старое, созидая новое. В Петре не было ничего, что старинные русские люди привыкли соединять со значением царя, – это герой в античном смысле, это в новое время единственная исполинская фигура, каких мы много видим в туманной дали, при основании и устроении человеческих обществ”.
“Для Соловьева, как и для Грановского, – говорит академик К. Н. Бестужев-Рюмин, – история была наука, по преимуществу воспитывающая гражданина. Для того и для другого поучительный характер истории заключался не в тех прямых уроках, которыми любила щеголять историография XVIII века и которыми богаты страницы Карамзина, где выставляются герои добродетели в пример для подражания и чудовища порока в образец того, чего следует избегать. Нет, ни тот, ни другой из этих незабвенных профессоров не считал историю “зеркалом добродетели”, но каждый из них имел другую цель: они старались воспитать в своих слушателях сознание вечных законов исторического развития, уважение к прошлому, стремление к улучшению и развитию в будущем; они старались пробудить сознание того, что успехи гражданственности добываются трудом и медленным процессом, что великие люди суть дети своего общества и представители его, что им нужна почва для действия. Не с насмешкой сожаления относились они к прошлому, но со стремлением понять его в нем самом, в его отношениях к настоящему: “Спросим человека, с кем он знаком, – и мы узнаем человека; спросим о его истории, – и мы узнаем народ”. Этими словами Соловьев начал свой курс 1848 года, когда я имел счастье его слушать. В истории народа мы его узнаем, но только в полной истории, в такой, где на первый план выступают существенные черты, где все случайное, несущественное отходит на второй план, отдается в жертву собирателям анекдотов, любителям “курьезов и раритетов”. Кто так высоко держал свое знамя, тот верил в будущее человечества, в будущее своего народа и старался воспитывать подрастающее поколение в этой высокой вере. С этой-то воспитательной целью такие профессора держались преимущественно общих очерков, где в мелочах не теряется общая мысль. Таким был всегда характер курсов Грановского, таким постепенно делал свой курс Соловьев; но и на первых своих шагах в университете он уже давал много места общим соображениям и выводам”.
Как горячо принимал к сердцу Соловьев университетские дела, видно из следующего рассказа профессора Буслаева: “Первым делом в организации университетского самоуправления (по введении университетского устава 1863 года) было – решить, кого избрать председателем совета. Вопрос этот на первых же порах сделался яблоком раздора в профессорской корпорации. Одни хотели иметь ректором Соловьева, другие – Баршева, и таким образом желанное единогласие для общей пользы было нарушено и распалось на две враждебные партии, на соловьевскую и баршевскую. Первая была гораздо малочисленнее последней, поэтому ректором был избран Баршев и оставался в этой должности несколько трехлетий сряду. Ожесточенная вражда, не умолкавшая в стенах университета, наконец опротивела мне донельзя. Она вредила и общему делу, и была гибельна для отдельных лиц. Однажды в заседании совета Соловьев, в качестве декана, горячо защищал какое-то предложение или заявление филологического факультета от злостных нападок со стороны враждебной партии и до того был оскорблен и раздражен нахальством и дерзостью своих противников, что совсем изнемог, а воротившись домой, в тот же день слег в постель и целые шесть недель прохворал в нервной горячке” (“Вестник Европы”, 1892, март).
В семидесятых годах, когда изменилась профессорская корпорация, Соловьева несколько раз выбирали в ректоры.
“Когда университет, – говорит ученик и сослуживец Соловьева профессор Герье, – признавая его значение, избрал его в ректоры, для этого учреждения наступила новая счастливая пора внутреннего развития, оправдавшая начала, положенные в основание университетского устава 1863 года. Ректорство С. М. Соловьева было знаменем служения одним только научным интересам и широкого понимания задач университетской жизни. Слова, написанные им некогда об исповедниках просвещения в XVII веке, что им “нужно было много труда, много жертв и страдания”, сделались как бы пророческими для него самого. Ему опять пришлось бороться против недоверия к науке, “происходившего от неуменья сладить с прогрессом, от стремления остановить его, возвратиться к первоначальным формам”. Но теперь речь шла не о литературных направлениях, не об исторических взглядах, оно касалось жизненных форм русской науки, университетского строя… Ученый, который своей многолетней, всеми признанной деятельностью доказал, как он умел согласовать самую искреннюю, разумную преданность государственному началу с бескорыстным стремлением к науке и просвещению, мог, конечно, вернее и беспристрастнее многих других судить об истинных потребностях русской науки. Но ему не суждено было дать перевес тому, что он считал правым делом; весною 1877 года Соловьев был принужден оставить ректорство и прославленную им кафедру. Через два года смерть навсегда прекратила его просвещенную деятельность”.
Еще не настало время рассказывать подробно о борьбе, которую вел С. М. Соловьев, – борьбе прогресса с застоем, светлого начала с темным. Еще живы лица, с которыми он боролся, которые осилили его…